На все эти плоские и злые шутки я никогда, ни единым словом не отвечал своему мучителю. Я лишь пристально смотрел на него, смотрел на обступивших нас слушателей, с отчаянием в душе и все-таки надеясь, что мне явится какой-нибудь избавитель. Но ни разу, ни один из мальчиков не заступился за меня. Со всей жестокостью подростков они допускали это бесконечное издевательство, поощряли его своим присутствием и неослабевающим интересом.
Ведь тогда существовали весьма определенные понятия о том, что считается приличным. И носить в гимназии принца Генриха заплатанные штаны как раз считалось неприличным. Выходит, правильно, что мне это хотели втолковать! А мама не проявляла никакого сочувствия к моим жалобам.
— Скажи своим мальчишкам,— говорила она,— что у тебя еще есть брат и две сестры и что мы вынуждены жить очень экономно. Берлин ужасно дорогой, отец регулярно откладывает десять процентов от своего жалованья на черный день, и он от этого не отступится. Ведь все достанется вам, детям. Нет, Ганс, ты одет вполне прилично и чисто, ну куда это годится, если я буду каждый раз покупать тебе новые штаны вместо потертых?..
С одной стороны, я понимал ее, а с другой, отказывался понимать. Я считал, что раз мои родители не в состоянии одевать меня, как одевают других мальчиков, то пусть тогда не посылают в такую шикарную гимназию. Я пытался также объяснить маме, правда, намеками, как надо мной издеваются. Но она отнеслась к этому легко, она совершенно меня не понимала.
— Просто ребячьи выходки,— сказала мама.— Через неделю им надоест, и они придумают что-нибудь новое. А ты слишком обидчивый, мой мальчик, ты совсем не понимаешь шуток. Тебе надо привыкнуть к этому, ничего, кроме пользы, для тебя не будет.
Но я к этому не привык, и никто не придумал чего-либо нового, чем мог бы отвести свою душу Фридеман. Я по-прежнему оставался мишенью его безжалостных насмешек. Он изобретал все новые и новые варианты, тут его голова работала безотказно. Пока в одну из перемен я в отчаянии не кинулся на этого верзилу: подпрыгнув, я сорвал с него очки и расцарапал ему лицо. Мое нападение было для него столь неожиданным, что он упал. Я сидел на нем верхом и с чувством необычайного удовлетворения колотил его, а он, здоровенный парень, даже ни разу не осмелился ударить меня, слабака!
Да, вот тут-то и выяснилось, что язва Фридеман отъявленный трус. Весь класс был тому свидетелем, и с этого момента ни Фридемана, ни его насмешек, можно считать, больше не существовало. Через несколько дней, оправившись после моей атаки, он сделал было еще одну-единственную попытку заговорить о моих заплатах, но его сразу же одернули:
— Ты, Фридеман, заткнись! С этим покончено раз и навсегда!
Я добился, что к моим заплатам притерпелись, но достиг этим немногого. По-прежнему я оставался отверженным. На переменах никто со мной не общался, никто не желал быть моим другом. Так, постепенно меня все больше и больше охватывало глубочайшее уныние, которое плохо отражалось на учебе. Должен сказать, что этому способствовало еще одно печальное обстоятельство: в нашей гимназии тогда подвизались несколько учителей, которые были чем угодно, только не педагогами. На мой жалкий, запуганный вид в конце концов обратил бы внимание любой мало-мальски наблюдательный человек, но только не эти наставники подрастающего поколения.
Вот, например, наш учитель немецкого языка; этот молодой еще господин, лицо которого украшало множество шрамов — следы студенческих дуэлей — оказывал мне некоторое предпочтение. Однако проявлял он его весьма неприятным для меня образом. Поскольку я принадлежал к числу самых плохих учеников в классе, меня посадили на переднюю парту, напротив учительской кафедры. Герр Грэбер — так звали этого учителя — не любил вести урок с кафедры, возвышаясь эдаким божеством над учениками. Он предпочитал находиться в их гуще, расхаживать в проходах между партами, но больше всего ему нравилось стоять возле меня. И в то время, как он с этого места бойко, звучным голосом вел урок, его пальцы беспрерывно были заняты моей шевелюрой...
Хотя мне к тому времени уже стукнуло лет одиннадцать или двенадцать, я все еще носил длинную прическу. Несмотря на все мои просьбы, мама никак не решалась отдать на произвол парикмахерских ножниц мои белокурые волосы. Светлые кудри почти достигали плеч, на лбу же у меня было нечто, официально именуемое челкой, а на языке моих недоброжелательных соучеников — «махрой». Эта челка, или махра, каким-то непостижимым образом притягивала к себе пальцы герра Грэбера. В течение урока учительские пальцы были заняты лишь тем, что сплетали из моей махры маленькие, тугие, торчавшие во все стороны косички. Правда, в этом было одно неоценимое преимущество: герр Грэбер никогда ни о чем меня не спрашивал. По немецкому языку мне ничего не задавали, и тем не менее я постоянно получал хорошие оценки. Но когда в конце урока герр Грэбер заставлял меня подняться и повернуться лицом к классу, когда раздавался неминуемый взрыв хохота, единица по немецкому казалась мне желаннее этого веселья.
Читать дальше
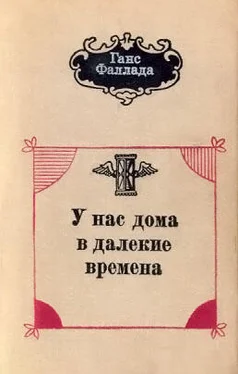







![Диана Джонс - Дом за порогом. Время призраков [litres]](/books/412396/diana-dzhons-dom-za-porogom-vremya-prizrakov-litre-thumb.webp)



