И все-таки многое в моей жизни, вероятно, сложилось бы иначе, если бы мой снисходительный отец не потерял в этот вечер терпения. Может быть, если бы надо мной не свершили столь короткий суд, я собрался бы с духом и рассказал отцу о своей идее насчет трамвая с предохранительной решеткой и, возможно, что он — хотя скорее всего подобную идею сочли бы тогда ребяческой причудой,— прислушался бы и сказал себе: «За этим кроется нечто другое, и, к сожалению, посерьезнее, чем непунктуальность и вранье».
Вот так я всю свою юность, да и не один год потом, периодически страдал навязчивыми идеями, но не мог тогда поговорить об этом ни с одним человеком. Случай был упущен навсегда из-за той вечерней порки.
Иной раз эти идеи были сравнительно безобидными. Например, улегшись в постель, я долго не мог заснуть, раздумывая: поставил я точку в конце последней фразы письменного упражнения или нет? В результате я поднимался с постели и заглядывал в тетрадь: разумеется, точка была на месте.
Правда, иногда идеи эти касались вещей и более дурных.
А о третьем тяжком поражении, которое мне довелось испытать благодаря дружбе с Гансом Фётшем, я расскажу в следующей главе.
В школе, или в школярне, как мы ее называли, я играл в то время весьма незавидную роль. Ходил я в гимназию принца Генриха на Груневальдштрассе, считавшуюся тогда гимназией высшего разряда, а под этим следует понимать, что там протирали штаны за партами главным образом сыновья офицеров и чиновников — потомственных дворян, а также мальчики из богатых семей. Мои же родители были людьми необычайно бережливыми, поэтому, когда мне случалось протереть штаны, мама не покупала новые, а накладывала на зияющие дыры крепкие заплатки. Но поскольку у нее часто не было подходящего материала, то без особых колебаний в дело шли инородные лоскуты. С тех пор прошло добрых тридцать пять лет, но я, как сейчас, вижу перед собой эти злосчастные штаны: темно-синие, фирмы «Блейль» [17], с красующимися на них серыми заплатами.
О, сколько издевательств и насмешек претерпел я из-за этих штанов! Дразнили меня, разумеется, не «знатные» одноклассники. Те благородно не замечали дефекта, но сразу же перестали замечать и меня самого. Если я их о чем-либо спрашивал, они отвечали сухо, с пренебрежением и надменностью, что меня глубоко огорчало и возмущало. Зато другие, те, что из породы не волков, а койотов,— как откровенно и нагло они надо мной издевались! Был среди них верзила по фамилии Фридеман — ростом выше меня на голову, на уроках отличался полнейшим невежеством, трижды оставался на второй год, но кое-что эта каналья умела превосходно: мучить меня!
Когда наступала большая перемена, которую мы были обязаны проводить на школьном дворе, верзила Фридеман, пользуясь тем, что я был намного слабее, затаскивал меня в какой-нибудь угол, более или менее скрытый от глаз надзиравшего учителя, и заводил разговор на тему штопки и шитья. Вскоре мы оказывались в центре полукруга слушателей, «аристократы», естественно, держались на заднем плане. Особенно меткие остроты встречались хохотом и аплодисментами, вдохновлявшими моего истязателя на новые подвиги.
Мне никогда не забыть, как я стоял, зажатый в каменный угол, бледный, хилый, доведенный до отчаяния. Все школяры наслаждались пятнадцатиминутной свободой, для меня же она была мукой. Каждый раз я вздыхал с облегчением, едва раздавался звонок на занятия. Я пытался хитростью ускользнуть от своих мучителей. Но, видно, не таким уж я был хитрецом! Пробовал в начале большой перемены прятаться в классе, но самое большее через три минуты меня выуживал оттуда какой-нибудь учитель и со строгим внушением отправлял во двор так как нам полагалось эти четверть часа дышать свежим воздухом. Пробовал запираться в уборной, но мой мучитель вскоре меня отыскивал. Он барабанил в дверь до тех пор, пока я не сдавался и не поступал в его распоряжение.
О, как я ненавидел этого дылду Фридемана, его белое прыщавое лицо и наглые бесцветные глазки за очками в никелевой оправе! Когда он своим гнусавым высокомерным голосом принимался расспрашивать меня о моих взглядах на починку одежды! Как я выбираю цвет заплатки, не кажется ли мне, что красный цвет самый чудесный, нет, не кажется? А может быть, зеленый с красным, справа красную заплатку, слева зеленую, и спереди — желтую?.. (Одобрительный рев слушателей.) Ну, а обувь мне, вероятно, чинит папаша — если судить по латке на правом башмаке, то так оно и должно быть. Тут уж ничего не попишешь, бывают семьи целые и бывают залатанные. Хорошо, что в данной гимназии есть представитель лоскутных семейств, один экземпляр в качестве наглядного пособия.
Читать дальше
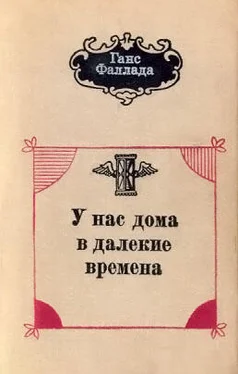







![Диана Джонс - Дом за порогом. Время призраков [litres]](/books/412396/diana-dzhons-dom-za-porogom-vremya-prizrakov-litre-thumb.webp)



