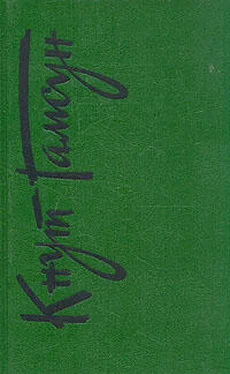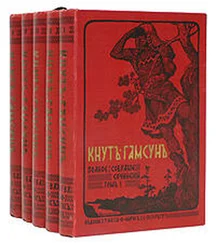— Ты, стало быть, нынче в ночь и отправишься, — говорит он Уле-Мужику. — Да, и знаешь ли что? Как вернёшься из плавания, отведи «Фунтус» на ту сторону, за маяк. Зимой он не пойдёт на Лофотены, пусть там на приколе и стоит до весны.
Вот и Успенье прошло. Суда с треской уплыли на юг, опустели сушильни. В лесу уже опадает листва.
Как-то тише стало в Сирилунне. Свен-Сторож и Уле-Мужик часть людей увезли с собой, удалилась и Брамапутра, причина шумных и опасных волнений среди мужчин. Ну, кое-кто и остался, все рабочие на пристани, приказчики, кузнец, пекарь, бондарь, шорник, оба мельника, все женщины, Крючочник, Колода, Йенс-Детород да расслабленный Фредрик Менза, который лежал, прикованный к постели, только ел, и смерть, кажется, забыла к нему дорогу.
Да, смерть всё никак не приходила за Фредриком Мензой. Целый год пролежал он так, всё больше впадая в детство. Ел он много и не слабел, но совсем отупел от старости. О чём бы ни спросили его, он отвечал: бо-бо, а то долгими часами лежал, глядя в потолок, и никак не мог сладить со своими руками и урезонивал их с помощью нечленораздельных звуков. Он старел с каждым днём, но каждое утро просыпался всё в том же добром здравии, и смерть его не брала. Это был тяжкий крест для Крючочника, спавшего с ним в одной каморке.
У Крючочника с Колодой завязалась забавная дружба, они оба тосковали по Брамапутре и непременно бы ей послали весточку в Берген, если б не боялись Уле. Тяжко, неуклюже бродит по двору Колода. Он носит дрова ко всем печам в доме и таскает огромные тяжести. Поступь его медленна, топот слышен повсюду. Он взваливает себе на плечи высокие, как возы, вязанки, но такому силачу всё нипочём, он может остановиться и, навьюченный, часами разговаривать с встречным. Зато по дому он продвигается осторожно, как ребёнок. У кухонной двери он бросает вязанку на пол и разносит по дому в несколько приёмов. Верно, он боится, что иначе под ним подломится лестница.
Дружба Крючочника с Колодой тем забавна, что Крючочник вечно поддразнивает приятеля. Хитрый Крючочник, норовя держаться на безопасном расстоянии от Циклопа, затевает коварнейшую игру, громко выкликая разные шутки и весёлые прозвища. Он даже выдумал аккомпанировать шагам Колоды каким-то особенным щебетом. Подстережёт, когда силач двинется из дровяного сарая, и щебечет ему в такт. Колода сперва идёт себе кротко, потом нарочно спотыкается, переступает, путает, сбивает Крючочника, но неотвязный щебет тотчас опять настигает его. Лишь возле кухонной двери наступает спасение. Тут Колода озирается, и глаза его наливаются кровью. Ну, а вечером он кроток и добродушен по-прежнему.
На Хартвигсена иногда находит, у него бывают такие странные идеи, как-то раз, в лавке, он спрашивает у меня, не объясню ли я ему, как лучше добраться до Иерусалима.
В лавке несколько покупателей, лопарь Гилберт стоит у стойки и пропускает рюмочку-другую. Я подумал, что Хартвигсен задал свой вопрос, чтобы показать покупателям и приказчикам, что для него теперь нет ничего невозможного, вот мол, пожалуйста, он собрался в Иерусалим. Поэтому я и не стал отвечать серьёзно, сказал только — о! до самого Иерусалима? Путь неблизкий!
— Да. Однако же туда можно добраться?
— Разумеется.
— А какой дорогой, вы не знаете?
— Нет.
— Не расспросите ли ради меня смотрителя? А то мы с ним на ножах.
— Если вы в самом деле желаете это узнать, я его расспрошу.
— Да, желаю узнать.
Приказчики, лопарь Гилберт и покупатели развесили уши. Хартвигсен это, конечно, заметил, он сказал с важностью:
— Мне с детства запало в душу, что надо когда-нибудь посетить знаменитую Иудею.
И лопарь Гилберт трясёт головой — да, какой могущественный человек этот Хартвигсен, всё ему нипочём.
— Это же сколько стран проехать надо, — говорит он. — И там что, тоже море есть, как у нас, и люди, и солнце светит? Ух ты, Господи!
И лопарь Гилберт, у которого была слава разносчика новостей, поскорее допил свою рюмку и собрался идти.
И тут входит баронесса.
Я во все глаза смотрел на неё и на лопаря. Ни один мускул в лице её не дрогнул, она глянула на него пустым, неузнающим взглядом, он для неё не существовал. О, у неё была та же удивительная сила, что у отца, она любого могла поставить на место. Как царица, прошла она мимо, зашла за прилавок и скрылась в конторе.
Лопарь Гилберт кланяется: «Счастливо вам!» — и выходит за дверь.
Я сообщаю Хартвигсену то, что успел обдумать тем временем: он может через Европу добраться до Константинополя и потом, на пароходе, куда-нибудь в Малую Азию. Но там уж ему не обойтись без знания языков, а на это уйдёт уйма времени.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу