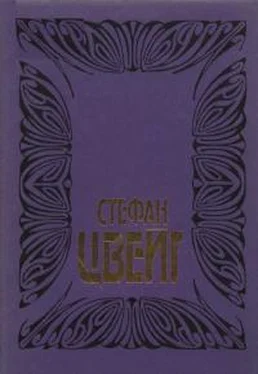Так начинался закат его сердца.
* * *
Уже смеркалось. Старик лежал с закрытыми глазами, не то бодрствуя, не то в полусне. И в этом смутном состоянии, между бодрствованием и дремотой, ему казалось, будто откуда-то, из какой-то безболезненной раны, просачивается что-то влажное, горячее в его кровь, и у него было ощущение, будто он сам истекает кровью. Оно не причиняло боли, это невидимое струение, оно было совершенно спокойно. Тихо, как слезы, частые и теплые, падали эти капли, и каждая из них попадала прямо в сердце. Но сердце, погруженное во мрак, не издавало ни звука; покорно оно впитывало эту чуждую влагу, оно всасывало ее, как губка, тяжелело, напухало и набухало в тесной грудной клетке… Постепенно наполнившись и переполнившись этой тяжестью, оно раздвигает связки, обрывает напряженные мускулы. Все нестерпимее давило и теснило истерзанное сердце, выросшее до гигантских размеров. И вот (какое ужасное страдание!) эта тяжесть отделяется и начинает медленно опускаться. Плавно, бесшумно, отделилась она от мускулов — совсем спокойно — не камень, не падающий плод: нет, скорее, губка, впитавшая влагу, — так опускалась она — глубже, все глубже уходя в пустоту, в небытие, куда-то за пределы его существа, в черную безбрежную ночь. И вдруг воцарилась зловещая тишина, воцарилась там, где только что набухало теплое сердце: там зияла пустота, там царил ужас и холод. Оно уже не билось, не сочилось: все утихло, угасло. И будто черный гроб, мрачно высилась содрогающаяся грудь над этой непостижимой немотой.
Так ярко было это пережитое во сне чувство, так глубоко было смятение, что старик, пробудившись, невольно провел рукой по левой стороне груди, чтобы удостовериться, на месте ли у него сердце. Но — слава Богу — что-то билось, глухо, ритмично под его пальцами, — и все же казалось, что эти глухие удары раздаются в пустом пространстве, а сердца нет. И странно: ему вдруг показалось, что его собственное тело отделилось от него. Не тревожила его боль, и воспоминания уже не дергали истерзанных нервов; все безмолвствовало, все оцепенело, окаменело в нем. «Что же это, — подумал он, — ведь вот сейчас что-то невыносимо терзало меня, душа была полна тревоги, каждый нерв трепетал. Что же случилось со мною?» Он вслушивался в эту пустоту: не шевельнется ли там былое? Но не было уже журчания и струения, ничего не билось, не сочилось у него в груди. Он слушал, слушал: нет, угасли, замерли все звуки. Ничто уже не назревало, не заныло в нем, ничто не болело: было мрачно и пусто, как в дупле сгоревшего дерева. Ему вдруг почудилось, будто он уже умер, или что-то умерло в нем — так зловеще спокойно останавливалась кровь. Холодным, как труп, ощущал он свое собственное тело, и ему было страшно прикоснуться к нему теплой рукой.
* * *
Старик вслушивался в себя; он не слышал, как с озера проникали в комнату, окутанную сумерками, удары часов. Вокруг него вырастала ночь, мрак постепенно вычеркивал предметы из уплывающего пространства; погасла, наконец, и полоса неба, еще светившаяся в прямоугольнике окна. Наступила полная темнота. Старик не замечал ее: он вглядывался только во мрак своей души, вслушивался только во внутреннюю пустоту, в собственное угасание.
Вдруг в смежную комнату ворвался задорный смех, засверкал свет, бросая луч сквозь щель слегка приоткрытой двери. Старик испугался: жена, дочь! Сейчас они заметят его на диване, начнут расспрашивать. Поспешно он застегнул жилет: зачем им знать о его припадке, какое им дело до него?
Но женщины не стали его искать. Они, очевидно, торопились: громоподобный гонг в третий раз повторял приглашение к обеду. Они, по-видимому, переодевались: через открытую дверь до него доносился каждый звук. Вот они открыли чемоданы, вот положили звенящие кольца на умывальник, вот застучали брошенные на пол ботинки, и с этими звуками смешивались их голоса: каждое слово, каждый слог, с убийственной отчетливостью, доносился до слуха насторожившегося старика. Они говорили о своих кавалерах, посмеиваясь над ними, о маленьком происшествии во время прогулки, легко и беззаботно болтали обо всем, в то же время умываясь, причесываясь, прихорашиваясь. Вдруг разговор перешел на него.
— Где же папа? — спросила Эрна, как будто удивляясь, что так поздно вспомнила о нем.
— Откуда мне знать? — это был голос матери, раздраженный уже одним этим упоминанием. — Вероятно, он ждет внизу и в сотый раз перечитывает курс во «Франкфуртской газете» — он больше ничем не интересуется. Ты думаешь, он хоть раз взглянул на озеро? Он сказал мне сегодня, что ему здесь не нравится. Он хочет, чтобы мы сегодня же уехали.
Читать дальше