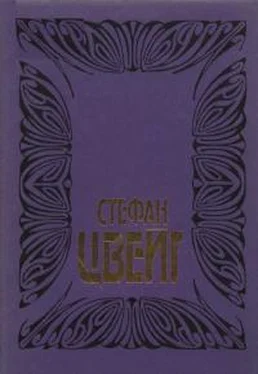О, эта бешеная, жгучая, неутешимая боль! Он стиснул зубы, чтобы не закричать. В муках корчилось застигнутое врасплох тело.
Он сразу понял, что произошло: это был печеночный приступ, один из тех ужасных приступов, которые нередко мучили его в последнее время; но никогда он не испытывал таких дьявольских страданий, как в этот раз. «Избегать волнений», — вспомнил он в ту же минуту предписание врача. И, корчась от боли, он злобно посмеивался над собой: «Легко сказать, избегать волнений… пусть господин профессор сам покажет, как это не волноваться когда… ох… ох…»
Старик завыл — так жгуче вонзились невидимые когти в истерзанное тело. С трудом он дотащился до двери своей комнаты, открыл ее и упал на оттоманку, впившись зубами в подушку. Боль несколько успокоилась, как только он лег; раскаленное острие уже не так глубоко проникало в израненные внутренности.
«Надо бы компресс положить, — вспомнил он, — принять капли — сразу станет легче». Но никого не было, кто бы ему помог, никого. А у самого не хватало сил добраться до другой комнаты или хотя бы только до звонка. «Никого нет, — подумал он озлобленно, — вот так и подохну когда-нибудь, как собака… Я ведь знаю, это не желчь причиняет мне такую боль… это смерть уже внедрилась в меня… Я знаю, я уже пропащий человек, никакие профессора, никакие лекарства мне не помогут… В шестьдесят пять лет не выздоравливают… я знаю, что смерть впилась в мое тело, и эти два-три года, которые мне осталось прожить, это уже не жизнь, а умирание, одно умирание… Но когда… когда же я жил?.. Когда я жил для самого себя?., разве это была жизнь? Вечная погоня за деньгами, и только за деньгами… только для других… и теперь, что я имею за это? У меня была жена: я взял ее девушкой, оплодотворил ее тело, она мне принесла ребенка; из года в год мы спали в одной постели, дышали одним дыханием… а теперь, что стало с ней? Я не узнаю ее лица; чужд мне ее голос… как чужая, она говорит со мною, ей нет дела до моей жизни, до моих переживаний, моих дум, страданий… Чужая она мне уже годы и годы… Куда исчезло то время, куда оно ушло? И был у нас ребенок… вырос… я думал, тут начнется новая жизнь, дни потекут, светлые, счастливые, и не будет смерти: в ней я буду жить… И вот, дочь покидает меня и по ночам отдается мужчинам… Только умирать я буду для себя самого… только для себя… для других я уже умер… Боже, Боже, никогда еще я не был так одинок!»
Острые когти время от времени еще впивались в его тело. Но другая боль все крепче сдавливала виски; мысли, эти твердые, немилосердно острые, раскаленные камешки, обжигали лоб. Только бы забыться теперь, ни о чем не думать! Старик расстегнул жилет; неуклюже, бесформенно выпячивался и дрожал живот под вздувшейся сорочкой. Осторожно он надавил на больное место. «Вот это я, — подумал он, — я — эта боль, этот кусок горящей кожи… и только это еще принадлежит мне; это моя болезнь, моя смерть… Вот чем я стал… я уже не коммерции советник, у меня нет ни жены, ни дочери, ни денег, ни дома, ни дела… мне осталось только то, что я сейчас ощупываю пальцами, — мое тело и эта жгучая боль… все остальное — вздор, не имеет больше никакого значения… а эта боль — только моя боль, и эта забота — только моя забота… Они уже не понимают меня, и я не понимаю их… Никогда я так не ощущал своего одиночества. Но теперь, когда смерть уже гнездится в моем теле, теперь, я чувствую… слишком поздно, на шестьдесят пятом году, когда я тут подыхаю, а они танцуют, гуляют, шляются, эти потерявшие честь женщины… теперь я сознаю, что всю свою жизнь я отдал им, неблагодарным, и ни одного часа не жил для себя… Но какое мне дело, какое мне дело до них?.. Зачем думать о тех, кто не думает обо мне? Лучше околеть, чем принять их сострадание… какое мне дело до них?»
Постепенно, шаг за шагом, оставляла его боль: уже не так цепко, не так жгуче сжимала его эта злобная рука в своих тисках. Но оставалось в нем что-то тупое, — уже не боль; что-то чуждое нарастало и наступало, вонзая в него свой шип. Старик лежал с закрытыми глазами и напряженно прислушивался к тому, что тихо заныло и назревало в нем: ему казалось, что чуждая, неведомая сила сперва острым, а теперь тупым орудием что-то выгребала из него, нить за нитью обрывала что-то в его теле. Не было уже боли. Не было тисков. Но что-то гниющее тихо набухало внутри, что-то отмирало в нем. Все, чем он жил, все, что он любил, пожиралось этим медленным огнем, обугливалось, тлело и угасало, погружаясь в вязкую тину равнодушия. Что-то свершалось, смутно он ощущал: что-то свершалось, в то время как он лежал и взволнованно думал о своей жизни. Что-то кончалось. Что это было? Он сосредоточенно прислушивался.
Читать дальше