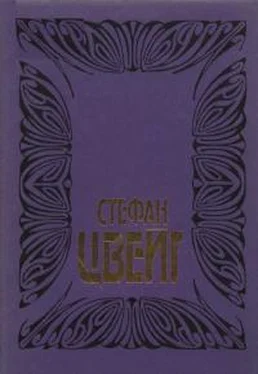С этого дня старик в собственном доме пользовался только черной лестницей: здесь он был уверен, что никого не встретит. Здесь он никому не мешал, и ему здесь не мешали. Он перестал выходить к столу — старая служанка приносила еду ему в комнату. Если жена и дочь пытались проникнуть к нему, он быстро выпроваживал их, смущенный, но с непоколебимой решимостью. В конце концов, они оставили его одного, отвыкли справляться о нем, и он тоже ни о чем не справлялся. Часто к нему доносились сквозь стены смех и музыка из других, теперь уже чуждых ему комнат; он слышал стук карет, уезжавших поздней ночью. Но так безразлично ему было все это, что он даже не выглядывал из окна: какое ему дело до них? Иногда только приходила собака и ложилась перед кроватью всеми покинутого хозяина.
* * *
Он уже не испытывал боли в омертвелом сердце, но черный крот продолжал свою работу и до крови разрывал издерганное тело. Припадки учащались с каждой неделей. Наконец измученный старик уступил настоянию врача и подвергся тщательному осмотру. Лицо профессора омрачилось. Осторожно подготавливая больного, он дал понять, что операция неизбежна. Но старик не испугался, он только печально улыбнулся: слава Богу, скоро конец! Настает конец умиранию, приближается благостная смерть. Он запретил врачу сообщать об этом семье, назначил день и приготовился. В последний раз он пошел к себе в контору (где никто его уже не ожидал и все смотрели на него, как на чужого), сел еще раз в черное кожаное кресло, в котором он, за тридцать лет, за всю свою жизнь, просидел тысячи и тысячи часов, потребовал чековую книжку и заполнил один из листков. Этот листок он отнес старшине общины, который почти испугался размера вклада. Эта сумма предназначалась для благотворительных целей и для ухода за его могилой. Он уклонился от благодарственных излияний и быстро ушел, спотыкаясь и потеряв при этом шляпу; но он даже не потрудился нагнуться, чтобы поднять ее. И так, с непокрытой головой, с омраченным взором и с желтым, морщинистым лицом, побрел он (изумленно смотрели люди ему вслед) на кладбище, к могиле родителей. Там наблюдали за ним несколько бездельников и удивлялись, глядя на него: он говорил долго и громко с полусгнившими камнями, как разговаривают с людьми. Извещал ли он о своем предстоящем приходе или просил благословения? Никто не слышал его слов, только губы шевелились, и все ниже опускалась в молитве его голова. У выхода обступили его нищие. Он поспешно вытаскивал из карманов монеты и бумажки; когда он все уже роздал, притащилась запоздавшая старушка, вся в морщинах, и умоляла о милостыне. Смущенно он обыскал карманы и больше ничего не нашел. Но что-то ненужное, тяжелое сдавливало ему палец: обручальное кольцо. Луч воспоминания озарил его — он поспешно снял кольцо с пальца и отдал его изумленной женщине.
И вот, нищий, опустошенный и одинокий, старик лег на операционный стол.
* * *
Когда старик пришел в себя после наркоза, врачи нашли его состояние угрожающим и призвали жену и дочь, уже осведомленных о событии. С трудом пробивался взор сквозь обрамленные синеватыми тенями веки. «Где я?» — спрашивал этот взор, устремленный в белизну незнакомых стен.
Ласково склонилась дочь над осунувшимся лицом. И вдруг сверкнули воспоминанием потухшие зрачки. Еле заметный свет зажегся в них: вот оно, невыразимо любимое дитя, вот она, Эрна, нежное, прекрасное дитя! Тихо, совсем тихо шевельнулись озлобленные уста — улыбка, еле заметная, давно забытая улыбка тронула сомкнутые углы рта. И, потрясенная этой горькой радостью, она наклонилась, чтобы поцеловать обескровленную щеку отца.
Но вдруг — был ли это сладкий запах духов, пробудивший в нем воспоминание, или воскресли в омраченной памяти забытые мгновения, — черты его, только что сиявшие счастьем, резко изменились: бледные губы сразу злобно сомкнулись, рука под одеялом напряженно стремилась подняться, как бы для того, чтобы оттолкнуть что-то враждебное, все истерзанное тело дрожало от волнения.
— Прочь!.. Прочь!.. — нечленораздельно, но все же достаточно внятно лепетали помертвевшие губы. И такое непреодолимое отвращение выразилось в сведенных судорогой чертах умирающего, что врач озабоченно отстранил женщин.
— Он бредит, — шепнул он, — лучше оставить его одного.
Как только женщины ушли, искаженные черты разгладились и приняли пустое и утомленное выражение дремоты. Он тяжело дышал — все выше подымалась грудь в погоне за воздухом. Но скоро она пресытилась этой горькой пищей. И когда врач в очередной раз приложил ухо к сердцу старика, оно уже перестало причинять ему боль.
Читать дальше