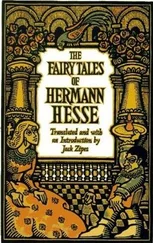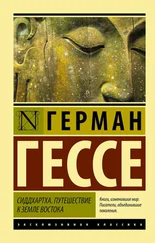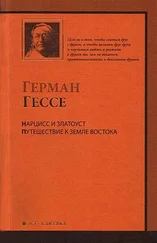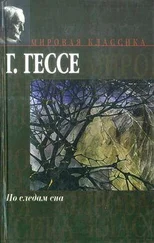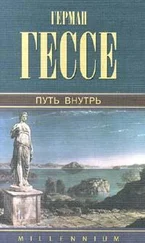Закрыв глаза, художник мерно покачивал головой, лицо его было бледным, губы поджаты.
– Спасибо, – воскликнул он, едва заметно улыбнувшись. – Спасибо, ты очень любезен. Осенью я скажу тебе, поеду ли я с тобой. Пожалуйста, оставь мне эти фотографии.
– Они твои… Но… не можешь ли ты принять решение относительно поездки уже сегодня или завтра? Так было бы лучше для тебя.
Верагут встал и подошел к двери.
– Нет, не могу. Кто знает, что произойдет за это время! Вот уже несколько лет я не оставлял Пьера больше чем на три-четыре недели. Мне кажется, я поеду с тобой, но сейчас я ничего тебе не скажу, а то как бы потом не пришлось раскаиваться.
– Ладно, так тому и быть! Я буду постоянно сообщать тебе, как меня найти. И если однажды ты скажешь мне по телефону, что согласен, тебе не придется даже пальцем пошевелить. Я устрою все сам. Ты возьмешь отсюда только белье и то, что нужно художнику для работы, но возьмешь всего в достатке. Об остальном я позабочусь в Генуе.
Верагут молча обнял друга.
– Ты помог мне, Отто, я этого никогда не забуду. Сейчас я прикажу заложить коляску, сегодня нас не ждут к обеду в доме. Давай отбросим все дела и проведем этот чудесный день так, как когда-то во время летних каникул! Мы покатаемся по окрестностям, взглянем на несколько красивых деревушек, поваляемся на траве в лесу, будем есть форель и пить из толстых кружек доброе деревенское вино. Погодка сегодня на диво хороша!
– Она уже несколько дней такая, – засмеялся Буркхардт. Верагут засмеялся тоже.
– Ах, мне кажется, солнце давно уже так не сияло!
После отъезда Буркхардта художника охватило странное чувство одиночества. То самое чувство, с которым он жил долгие годы и которое за это время научился выносить и почти не замечать, неожиданно подступило к нему, как новый, неведомо откуда взявшийся враг, и со всех сторон насело на него, грозя удушить. В то же время он чувствовал себя больше, чем когда бы то ни было, отрезанным от семьи, даже от Пьера. О причине он не догадывался, но заключалась она в том, что ему впервые удалось поговорить о ситуации, в которой он оказался.
В иные часы его посещало даже пагубное, унизительное чувство скуки. До сих пор Верагут вел неестественную, но последовательную жизнь человека, который добровольно замуровал себя в четырех стенах и потерял интерес к миру. Он не жил, а прозябал. Приезд друга пробил бреши в его келье, сквозь множество щелей к отшельнику хлынула новая жизнь, которая сверкала, звенела и благоухала, старые чары рассеялись, и каждый зов извне воспринимался пробудившимся художником с чрезмерной, почти болезненной силой.
Он яростно набросился на работу, почти одновременно начал две большие композиции, вставал с рассветом и сразу же принимал холодную ванну, работал без перерыва до обеда, затем, после короткого отдыха, взбадривал себя чашкой кофе и сигарой, а по ночам просыпался иногда с сердцебиением и головной болью. Но как бы ни принуждал он себя, как бы ни впрягался в работу, в его сознании под тонким покровом все время пульсировала и напоминала о себе мысль, что дверь перед ним распахнута и что в любое время он может сделать решительный шаг к свободе.
Он не думал об этом, постоянным усилием воли подавляя в себе все мысли. Но оставалось чувство, что в любой момент можно уйти, дверь открыта, путы легко разорвать, вот только решение обойдется слишком дорого, потребует тяжелейшей жертвы, поэтому лучше не думать об этом, лучше не думать! Решение, которого ждал от него Буркхардт и с которым, видимо, уже втайне смирилась его душа, сидело в нем, как пуля в теле раненого; вопрос был лишь в том, выйдет ли она вместе с гноем или же затянется и зарастет плотью. Она напоминала о себе болью, но боль пока была вполне терпимой; она не шла ни в какое сравнение с той болью, которую – он страшился этого – вызовет у него требуемая жертва. Поэтому он ничего не предпринимал, чувствовал, как горит его скрытая рана, и втихомолку, с отчаянным любопытством ждал, чем все кончится.
В таком смятении чувств он принялся писать большую картину, замысел которой давно занимал его и вдруг захватил целиком. Идея родилась несколько лет назад и поначалу увлекла его, но потом стала казаться ему пустой, чересчур аллегоричной и наконец совсем опротивела. Но теперь картина отчетливо встала перед его глазами, и он приступил к работе, радуясь чистоте и свежести образа и больше не ощущая его аллегоричности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу