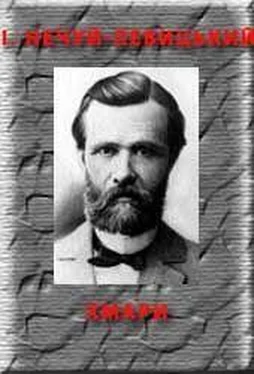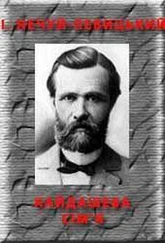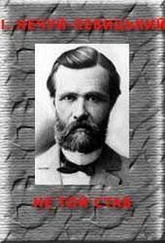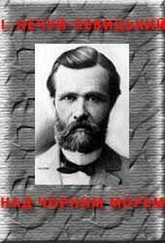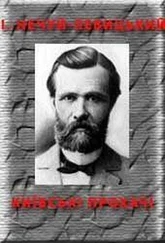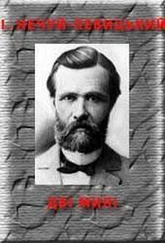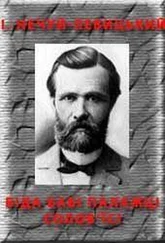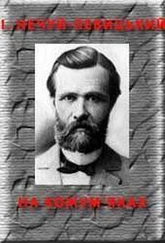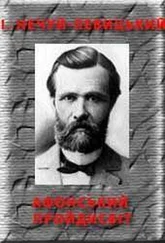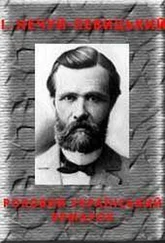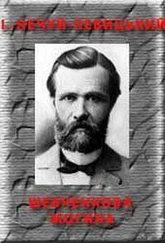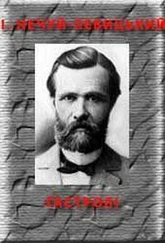Iван Нечуй-Левицький - Хмари
Здесь есть возможность читать онлайн «Iван Нечуй-Левицький - Хмари» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Классическая проза, ukr. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Хмари
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Хмари: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Хмари»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Хмари — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Хмари», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
З ставка повiяло холодком. Конi побiгли попiд густими садками. Незабаром балагула знов пiднялася на вищу гору й сховалась в густий старий лiс. Який знайомий був той лiс Дашковичевi! Дорога йшла по самiй спинi довгої гори, а по обидва боки лежали глибокi долини. Лiс застеляв гору й долини гiллястими дубами та грабами. Понад шляхом росла лiщина, де так часто Дашкович малим хлопцем любив рвать горiхи. Ще вище виїхала балагула на гору, i з тiєї гори стало видно всi Сегединцi, що розсипались на двох шпилях i на долинi понад двома великими ставками. Дашкович почував, що в його немолодому серцi заворушилась радiсть школяра, котрий вертається з школи до рiдного дому. Те почуття обвiяло його нiби пахощами ранньої весни, пахощами бiлого цвiту вишень, черешень, рясту та молодої першої травицi.
Довго котилася балагула з гори й збiгла на широку греблю. В кiнцi греблi пiд вербами стояв знайомий млин, зчорнiлий од негоди. Колеса й тепер крутились так само, як i за часу Дашковичевих молодих лiт, навiть так само на чорних колесах блищало кiлька нових бiлих лопатнiв, неначе латок. На високому шпилi, на чолопочку, проти самої греблi бiлiла церква з п'ятьма банями. Один став, великий, аж на двi верствi, огортав той шпиль сливе навкруги, а другий, ще бiльший, по другий бiк, розливався круглим озером серед чималих зелених гiр. Коло самого ставу, кран левади, на горбочку стояла друга церква з однiєю банею й високою дзвiницею. Конi повернули вулицею до тiєї церкви й заїхали у двiр священика. Старий сивий священик вийшов на ганок i спершу не впiзнав свого сина.
- Чи це ти, Василю? - спитав старий батько, зблизька придивляючись до сина, й трохи не доторкнувсь до його лиця.
- Добривечiр вам, тату! Це я! Чи я так постарiвся, що ви мене не впiзнали? - питав Дашкович, цiлуючи батька в руку, а потiм цiлуючись з ним у губи. Батько тричi поблагословив свого сина та все придивлявся до його.
- Чого ти, сину, став такий блiдий та худий? Й очi тобi якось позатягало. Чи тобi яка недогода, чи недостача в чому? Чи, мабуть, тобi та наука позатягала очi?
- Старiсть приходить, тату! Така вже людська доля.
Син придивлявся до батька, котрий вже стояв однiєю ногою в могилi. Очi його дивились якось дуже спокiйно, байдужно, а лице вже поморхло й нiби припало землею мiж глибокими зморшками; його голова й борода були бiлi, неначе вишневий цвiт.
Вони увiйшли в хату. Покої були дуже старi: в їх тхнуло трухлятиною. Син побачив, що в покоях нiчого не змiнилось од часу його дитячих лiт. Свiтлиця з сволоками, з образами була така сама, як i кiлька десяткiв год переднiше. В кiмнатi стояла та сама зелена велика скриня, скляна шафа; була та сама довга лежанка, груба з зелених кахоль, те саме лiжко. Оглядiвши хату й сiни, Дашкович потiм вийшов у садок. Тут природа панувала всею своєю силою. Де колись Дашкович поробив своїми руками квiтники, де вiн колись сiяв астри й левкої, там тепер росли калачики та лопух. Чорнобиль дорiс вже до самої хати й заглядав у вiкна. Яблунi й черешнi росли й посихали, пускали молодняки, як хотiли, мiж густими бур'янами. Дереза набiгла, як татарська орда, аж до середини садка. Все заростало, як заростало й помирало саме людське живоття в господi.
Дашкович пiшов подивиться на хазяйство старого батька. I там вiн побачив, що все осiло, все руйнувалось. Клуня була обдерта. На купах соломи й мерви, де колись стояли великi скирти й ожереди, вже росла кропива. Дашкович бачив, що природа була вже напоготовi поглинуть самий слiд того кубла, звiдкiль вiн вилинув на свiт. Для неї ще треба було ступить кiлька ступенiв, i вiн не впiзнав би й слiду рiдної оселi. Йому стало важко й сумно на душi.
Син побалакав з батьком i побачив, що старому вже байдуже про цей свiт. Розмова навiть втомила стару людину.
Надвечiр Дашкович пiшов знайомою вулицею подивиться на село. Там ворушилось життя не глибоке й не широке, але живе, живе, робоче життя села в гарячий лiтнiй час! Женцi весело вертались з поля; дiвчата йшли цiлою юрбою i спiвали свiжими голосами пiсню. За ними йшли парубки й зачiпали їх жартами. Смiх i жарти, веселi слова й смутнi пiснi лилися течiєю, неначе люди не працювали, а десь гуляли цiлий день. Десь недалеко жiнки змагались та лаялись через город, стоячи за тинами. Косарi затягли пiсню так голосно, що аж луна пiшла понад ставом. От i череда пустилась з поля до села й заглушила пiснi, й смiх, i жарти, навiть дзвiнку, як дзвони на дзвiницi, жiночу лайку. Село закричало, заклекотiло тисячею усяких голосiв, зашумiло, як лiс на великому вiтрi.
Дашковича вразило таке кипуче, ворушке життя українського села. Пiсля города, пiсля кабiнету, пiсля фiлософiї все те здалось йому таким новим, таким оригiнальним, таким живучим, що вiн сам собi здавався мерцем серед тисячi пульсiв сiльського життя. Йому прийшла на думку велика вулиця в великому мiстi, де кипить, хоч вище й iнше, але так само кипить життя.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Хмари»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Хмари» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Хмари» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.