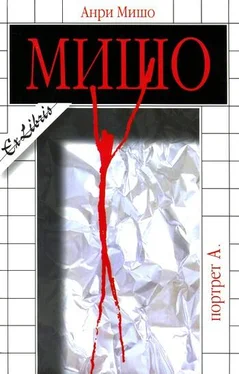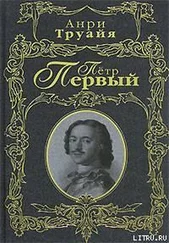Может быть, в глубине души я воспринимал его как воображаемое путешествие, которое совершалось без моего участия, было чужой выдумкой. Страны, придуманные другими. Я же испытывал перед этими странами удивление, волнение, раздражение.
Чего же недоставало этому путешествию, чтобы быть реальным? Это я понял позже. Оказывается, я намеренно исключал из своего поля зрения то, что явно обещало привести некоторые из этих стран к новой реальности, — политику.
Как видите, из этого путешествия мало что вышло. Я не собираюсь ничего наверстывать. Да и не получилось бы. Мне часто хотелось это сделать, но время не повернешь вспять. Можно что-то убрать, подчистить, вырезать, сократить, наскоро впихнуть в образовавшийся зияющий пробел что-то другое, а вот изменить — никак, пустить в другом направлении — никак.
Эта книга меня уже не устраивает, мне с ней трудно, я спотыкаюсь на ней, а временами мне за нее стыдно, но поправить в ней удается только сущие пустяки.
Она сопротивляется. Как живой персонаж.
У нее своя интонация.
И все, что мне хотелось бы — в качестве противовеса — добавить в эту книгу, все более серьезное, более продуманное, глубокое, испытанное, научно обоснованное отсылается мне назад… потому что книге это не подходит.
Вот так, был дикарем — дикарем и оставайся.
Чтоб не было путаницы, мои немногочисленные поздние примечания внизу страниц я отмечаю пометкой: поздн. примеч.
А. М. Май 1967
В Индии нельзя просто смотреть, все надо истолковывать.
Кабиру было сто двадцать лет, и когда он собрался умирать, {28} он пропел:
Я пьянею от счастья,
от счастья быть молодым,
там тридцать миллионов богов.
Я иду к ним. О радость, радость!
Я вступаю в священный круг…
Я видел пару десятков столиц. Тоже мне, невидаль!
Но есть на свете Калькутта. Калькутта — самый набитый город вселенной. {29}
Представьте себе город, состоящий из одних священников. Семьсот тысяч священников (плюс семьсот тысяч человек по домам — женщины. Они на голову ниже мужчин, и выходить из дома им не положено.) Одни мужчины, ощущение удивительное.
Город — из одних священников.
Бенгальцы рождаются священниками, и все эти священники, кроме самых маленьких, которых нужно носить, постоянно ходят пешком.
Одни пешеходы — и на тротуарах, и прямо на улицах, высокие, худые, ни бедер, ни плеч, ни жестов, ни смеха, все сплошь священнослужители, перипатетики.
Одеты все по-разному.
Есть и почти голые, но настоящий священник — всегда священник. У голых, пожалуй, самый солидный вид. Другие в тогах, у которых одна или обе полы откинуты назад, тоги сиреневые, розовые, зеленые, цвета винного осадка, у кого-то одеяние белое; слишком уж их много для одной улицы, одного города, все уверены в себе, у всех взгляд как зеркало, обманчивая искренность, особое бесстыдство, какое возникает от медитации в позе лотоса.
Безукоризненные взгляды — ни вверх, ни вниз, и нет в них ни изъяна, ни торжества, ни страха.
Они ходят, но глаза у них — как будто они лежат. Когда они лягут, глаза у них — как у стоящих. Ни склоненности, ни колебаний — все пойманы одной сетью. Какой?
Честная толпа, погруженная сама в себя, точнее, каждый погружен в себя по отдельности, наглая толпа, но если на нее нападают, она оказывается в замешательстве и тогда ведет себя трусливо и глупо.
Каждый из них под защитой своих семи центров, лотосов, небес, утренних и вечерних молитв богине Кали, сопровождаемых медитацией и жертвоприношениями.
Они старательно избегают любых источников «грязи»: рабочих из прачечных, дубильщиков, мясников из мусульманских лавок, сапожников, носовых платков, содержимое которых должно вернуться в землю, тошнотворного дыхания европейцев (оно еще хранит запах убийства) и всех бесчисленных вещей, из-за которых человек вечно оказывается по шею в грязи, если не проявит осторожности.
Они старательно укрепляют свой дух (тот, кто родился на свет глупцом, становится еще в два раза глупее, а кто может быть глупее глупого индуса?), они неторопливы, сдержанны и самоуверенны. (В их пьесах и в первых индийских фильмах — и предатели, открывающие свое истинное лицо, и офицер раджи, который в бешенстве готовится к бою… все действуют с некоторой задержкой. Им сначала требуется секунд тридцать, чтобы «облачиться» в свое негодование.)
Они сосредоточенны, а когда выходят на улицу и соприкасаются с потоком жизни, непременно внутренне замыкаются, набычиваются, забиваются в кокон и напрягаются. Никакой вялости, бессилия, опустошенности или растерянности. Уверенные и наглые.
Читать дальше