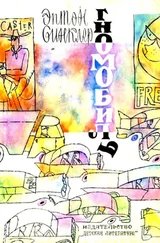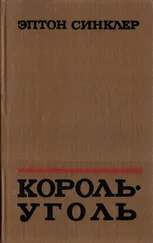Генерал Прентис с супругой начали уже принимать в своем городском доме. Монтэгю были приглашены к ним на обед, а затем — в оперу. В половине десятого Аллеи вошел в одну из многочисленных лож театра, расположенных в форме огромной подковы. В них сидело несколько сотен самых состоятельных людей столицы. Над балконом шел еще один ярус лож, а над ним три галереи. Внизу, в партере, сидело и стояло больше тысячи людей. На большой сцене разыгрывалась под аккомпанемент оркестра какая-то сложная драма, действующие лица которой не говорили, а пели.
Монтэгю очень любил музыку, но ему еще ни разу не доводилось слышать оперу. Когда он вошел, только начался второй акт; он сидел словно зачарованный, вслушиваясь в восхитительные мелодии. Миссис Прентис все это время разглядывала сквозь украшенный драгоценными камнями лорнет публику, сидевшую в других ложах, а Оливер не умолкая болтал с дочерью Прентисов.
Но когда окончилось действие, Оливер, выйдя с ним из ложи, прошептал:
— Ради бога, Аллеи, не строй из себя такого дурака.
— В чем дело? — спросил брат.
— Ну что подумают люди, когда увидят, как ты сидишь словно одурманенный!—воскликнул Оливер.
— А что же тут такого?—рассмеялся Монтэгю.—Они просто поймут, что я слушаю музыку.
— Но в оперу ходят вовсе не для того, чтобы слушать музыку,— возразил Оливер.
Это звучало шуткой, но в сущности дело обстояло именно так. По светским понятиям, посещение оперы было чрезвычайно важным событием, еще более важным, чем выставка лошадей, поскольку здесь собирались люди более изысканного круга и выставлялись напоказ еще более великолепные туалеты и драгоценности. Хозяевами здесь были представители великосветских кругов, так как в сущности оперный театр являлся полной их собственностью. Приходившим в театр подлинным ценителям музыки приходилось либо стоять где-нибудь в последних рядах, либо забираться на пятый ярус, под самый потолок, где было душно и жарко. О том, как мало значения придавали в свете самому спектаклю, можно судить хотя бы по тому, что опера обычно исполнялась на каком-нибудь иностранном языке и слова произносились так небрежно, что даже те немногие из зрителей, которые знали языки, не могли их разобрать. В свое время один великий поэт посвятил всю жизнь тому, чтобы опера стала подлинным искусством, и, борясь во имя этого с обществом, едва не умер с голоду. Теперь, полвека спустя, его гений восторжествовал, и общество милостиво согласилось просиживать в темноте по нескольку часов и слушать семенные пререкания древнегерманских богов и богинь. Но в сущности общество интересовал только сам спектакль, эффектные костюмы, декорации, танцы, красивые арии, которые можно было слушать вперемежку с болтовней; от сюжета требовалось, чтобы он был несложный; чем больше пылких чувств, понятных без слов, тем лучше: ну, например, трагическая любовь красивой куртизанки, наделенной благородной душою, к блестящему светскому юноше или что-нибудь в этом роде.
Почти у всех зрителей в опере имелись бинокли, при помощи которых молодые люди могли приблизить к себе любую из этих роскошно одетых дам и спокойно и обстоятельно ее рассматривать. По слухам, в одном только Нью-Йорке было на двести миллионов долларов бриллиантов, и, по всей вероятности, все они были выставлены напоказ, за исключением тех, которые оставались еще в ювелирных магазинах. Ибо именно здесь они и выполняли единственное свое назначение — красоваться перед теми, кто пришел на них поглядеть. Среди находившихся здесь светских дам девять наиболее выдающихся носили драгоценные украшения общей стоимостью в пять миллионов долларов. Широкие колье, напоминавшие кольчугу, состояли сплошь из сверкающих бриллиантов. Здесь можно было увидеть выставленные напоказ бриллиантовые, изумрудные и жемчужные тиары (то есть украшения в форме венцов и корон), подставкой для которых служила обычно голова какой-нибудь почтенной матроны. Эти украшения ввела в моду одна из представительниц семьи Уоллинга, и теперь их носили все знатные светские дамы. Одна из них, которой представили в этот вечер Монтэгю, признавала только жемчуг; у нее были: черные жемчужные серьги стоимостью в сорок тысяч долларов, нитка жемчуга в триста тысяч долларов, брошь розового жемчуга в пятьдесят тысяч и два ожерелья, по четверти миллиона долларов каждое!
В этом постоянном упоминании стоимости вещей было что-то весьма тривиальное и грубое, но Монтэгю пришел к выводу, что от этого никуда не уйдешь. Люди из общества делали вид, будто они выше расчетов, будто их интересует только красота и художественные достоинства самой вещи; но получалось так, что они постоянно говорили о ценах, которые платили другие, и каким-то образом другие в свою очередь всегда знали о том, сколько платили они. В то же время эти люди умели позаботиться, чтобы публика и газеты были поставлены в известность и о ценах, которые они платили, и вообще обо всем, что они делали. Например, в программах оперного театра печатался план лож с именами владельцев их абонементов, так что любой мог узнать, кто в какой ложе сидит. Эти блестящие дамы в великолепных туалетах на виду у любопытной толпы выходили из своих экипажей, а кругом сновали сыщики. И сердце каждой из этих дам трепетало при мысли о том чудном мгновении, когда она войдет в свою ложу и все присутствующие, забыв и думать о музыке, устремят на нее свои взоры, а она откинет меха и ослепит их блеском своего великолепия.
Читать дальше