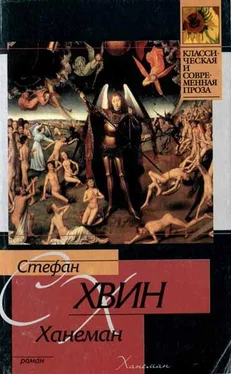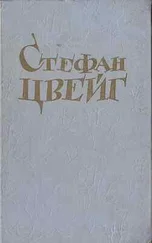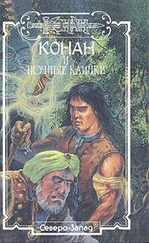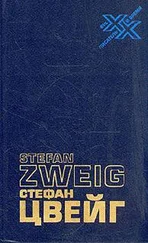День обещал быть чудесным, жарким.
Я читал медленно, терпеливо водя пальцем по длинным рядам готических букв — родители хотели, чтобы в Познани перед экзаменационной комиссией я блеснул не только хорошим произношением, но и знанием старинного шрифта, — а Ханеман, стоило мне задуматься, как произнести новое слово, кончиком желтого карандаша «кохинор» указывал на слоги, которые следовало повторить еще раз. Но что толку! Готическую М, сплетенную из черных тесемочек, я вечно путал то с W, то с удвоенной S, странной и коварной аббревиатурой, упорно прикидывающейся буквой F, хотя мог усвоить все это гораздо раньше, в отцовской комнате, где на полке рядом с Библией на кириллице стоял протестантский молитвенник из Повислья, напечатанный по-польски, но готическим шрифтом.
И тем не менее, продолжал Анджей Х., германист, с которым много лет спустя мы встретились в Бремене в университете, где он вел семинар по культуре Центральной Европы для шоколадных парней из Бахрейна и раскосых девушек из Таиланда, — тем не менее это мучительно-сладостное удовольствие, которое трудности чтения доставляли моим глазам, глазам шестнадцатилетнего подростка с улицы Героев Вестерплатте, потихоньку бредущим по полям готического шрифта, пробирающимся сквозь колючие заросли фрактуры [31] Фрактура — один из видов готического шрифта.
, между тугими цепочками причудливых букв, это мучительное удовольствие со временем приобрело особую окраску, чего я никак не мог предположить, впервые входя в квартиру на втором этаже дома 17 по улице Гротгера. Потому что, когда Ханеману, утомленному однообразием грамматических упражнений, при выполнении которых, признаться, я не всегда проявлял должное усердие, надоедало по сто раз повторять и перечитывать одно и то же, он приглашал меня — улыбаясь самому себе — в Лес Гутенберга, как он это называл; нет-нет, речь шла вовсе не о лесе на западном склоне Ясековой долины, носящем такое название.
В таких случаях он подходил к шкафу красного дерева со стеклянными дверцами, вытаскивал первое, что попадалось под руку, обычно с полки, на которой стояли издания тридцатых годов, оправленные в крепкий коленкор, с побуревшими кожаными корешками, на мгновенье задумывался, правильный ли сделал выбор, и, если выбор соответствовал настроению минуты, протягивал мне толстый том, но не затем, чтобы я приступил к переводу — о нет! до этого было еще далеко, — а чтобы ощутил на ладони тяжесть книги с темно-золотым обрезом и коснулся желтоватой бумаги со странным названием «ява», исподволь приближаясь к тому, о чем мне только еще предстояло узнать.
Да и чем могло привлечь шестнадцатилетнего мальчишку великолепное цюрихское издание «Революции нигилизма» Раушнинга, хотя Ханеман, когда ему попалась именно эта книга, с горьким смешком покачал головой, будто под красной обложкой с черными готическими буквами названия таилось что-то поистине ценное. Другое дело история музыки в старом Гданьске, сочинение того же самого Раушнинга, восхитившее меня темно-коричневой фотографией органа из Мариенкирхе на первой странице. Когда Ханеман ровным, спокойным голосом, неторопливо, чтобы я мог как можно больше понять, принялся читать отрывок из первой главы и в комнате на втором этаже дома 17 по улице Гротгера зазвучали длинные немецкие периоды, я мало что понимал, текст изобиловал специальными музыкальными терминами, да и сама тема не вызвала у меня живого отклика, однако он не останавливался: как он говорил, плавать можно научиться, только если сразу начать с глубокого места. Потом, когда он стал переводить прочитанное и мелодия рассказа о церковных хорах в старом Гданьске внезапно столкнулась с мелодией перевода — чего я прежде не ощущал даже при чтении вслух, не говоря уж о чтении про себя, — мне постепенно начал открываться секрет их чужеродности: различие тональностей оказалось куда важнее разницы значений и намного ближе — ведь каждый из нас внутренне проверяет его инструментом собственного тела, всегда, вопреки наилучшим намерениям, ревниво оберегающего то, что считает своим.
Но все это было лишь подготовительным этапом, репетициями, больше обещавшими, нежели исполнявшими, и я покорно в них участвовал, продолжая ощущать физическую отделенность от чужой красоты, которую отчасти просто принимал на веру, хотя все больше слов открывали мне свой двойной, а то и тройной смысл. Я начинал разбираться в сложной архитектуре фраз, опирающейся на фундамент всегда слишком длинных — в чем я не сомневался — слов: куда было нашему «конституционалисту», которым мы могли осадить всякого, кто бы вздумал посетовать на польское стаккато, до «Einfuhrungsfeierlichkeit», «Elementarrunterricht» или «Haushaltungsvorstand» — слов, тарахтящих, как колеса поезда, едущего по километровому мосту через Вислу под Тчевом! Все эти репетиции учили меня уважать крепко сбитую чужую речь, но сердце в те минуты, когда слух погружался в мир непривычных звуков, оставалось совершенно равнодушным к прелести ударений и модуляций, и я лишь с холодным интересом следил за тем, как Ханеман выделяет голосом синтаксические обороты, которые для меня — хотя, казалось бы, и обретали новые значения — были такими же пустыми, как леса, возведенные в том месте, где еще только предстоит построить дом.
Читать дальше