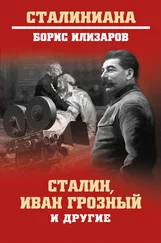Сейчас Петр Николаевич атаманит — взыграл олень в Войсковом гербе, загудел колокол на нашем златоглавом Державном соборе, твердо держит Круг власть на Дону.
Говорит так вот Иван Ильич и не знаю — жив я или мертв! До какого времени дожили! Живо Казачество! Живо старое, жестокое, и справедливое Казачество! Никогда оно не умирало и никогда не умрет. Не задавили его ни колодки, ни петли, не пресекли его топоры и мечи, не растерзал в пыточной, холуй-палач. Нет такой силы, которая могла бы уничтожить Его — ни золото, ни блуд изменников и предателей, ни бабьи бредни. Это дух народа, это с кровью матери всосана нами — жажда к Воле. Сейчас вот старинная мечта осуществилась — Азов наш. Дон свободен от красной нечисти. Степь наша. Шумит майдан, идут на смерть казаки: отцы и дети, старики и внуки, и женщины. Подняла нас Народная Освободительная война.
„За честь Отчизны, за Казачье Имя", — поет казачий певец Крюков.
„На заре то было-ой, на зорюшке!"
Когда мы с Иваном Ильичом восстали против большевиков и, очистив Казачий Присуд, оно же Дикое поле, оно же Всевеликое Войско Донское, созданное на наших казачьих костях и крови — мы подошли к граням.
Подошли и стали.
В голос кричал Гаморкин, повернувшись спиной к Миллерову, а лицом к Воронежу:
— Нужен нам большевизм на Дону и Революция? — Нет не нужны. Со своими, которые, к Москве, или к власти — сами управимся. Знаем кого выбирать и кого смещать. Из дураков не выберем. Ума казачьего нам ни у кого не занимать. А вам, ежели подай Революцию — вы и старайтесь. Подай мир хижинам. А я вас спрошу, нашим куреням иде от вас мир? А землю нашу, на которой мы веками честно трудичись, оставили вы нам? У одних отбираете, да другим даете? Иде это видано? Одним, выходит, нужна, а другим, нет. Почему крестьянину мой пай нужен, а мне кровью и потом его обрабатывавшему, не надобен?
За него, за пай этот, казак в землю всех предков уложил и прадеда, и деда, и отца. Войны всяческие вели, ваши же душеньки спасали. Сопляк какой нибудь на готовое припрется — казачьему народу на шею сесть. Да ешшо расселять начнет, да голодом морить, да порядки свои рабские заводить. Не-ет! Покедова я казак Вольного Дона, покедова последняя капля крови казачьей во мне содержится — не уступлю, всю жизнь биться буду. Никому не верю: ни монархистам, ни демократам, ни сицилистам — на кой хрен они все мне сдались, со своими планами, программами и разъяснениями. Как жить, сам знаю! Никого мне не нужно! На свои только силы и расчитываю, Доном даденые! На всех плюю, Евграфыч, с высоты чести своей Казачьей, столь для них недосягаемой, все одно что солнце красное.
Прежде всего — я, Иван Ильич Гаморкин. Затем мои ближние — Настасья Петровна с Нюнькой и 0омкой, потом сродственники, знакомцы, хуторцы, станичники и остальные казаки Войсковые, народ, так сказать Казачий. Кроме этого — другого для меня не существует и существовать даже не должно, да и не может! Мо-огут какие промеж нас приютиться казанскими сиротами. Так уж ты свою сиротскую долю и разумей, не лезь со своим уставом в чужой монастырь. Себя мы не обманем. Сам себя — дулю обманешь. А что за эти разнесчастные года есю душу из казака вымотали — так это хвакт.
Из вольных людей-солдатиков, помещиков, партейцев, дворян и прочих фигур понаделали. Полюбуйтесь-ка на казаков таких. Не затем наши деды и прадеды в степях сидели и каждодневно смерти в глаза глядели, што-бы потом, среди их вольных потомков таки е нашлись, что всю Войсковую Организацию шшелчком уничтожали, в лакейские мундиры наряжались и из Орлов Степных в куриц превращались. Да как же. Держи карман шире. Слушай, кум…
— Будет, — тихонько сказал я, — видишь, Иван Ильич, от твоих слов грозных, вся Воронежская губерния разбежалась.
Поцеловал Гаморкин шашку, каковой махал и вложил ее в ножны.
— Верно! Шут с ними! Разве они нас поймут? Бабы, я тебе скажу, кум, даже бабы и те у них — что блаженные. Пощекотать не дают! А ежели застрашшаишь — в обморок — хлоп. Оделолонцу, дайте, просють. Ровно порченные — ни ругаться, ни визжать толком не умеют. Чудной народ. И в кого он уродился — не пойму. Жале!!
Гаморкин подобрел. И оглянувшись, стал мне рассказывать. На нас никто не обращал внимание, так как казаки спешили маленько отдохнуть.
— Помню едет это Лев Толстов. Борода, говорят, на нем и все такое, даже говорят, граф. Я принарядился! Все на себя стоющего понадевал — медали, кресты. Усы расправил, вот так-во и вот так-во! Выхожу навстречу… а он? Тьфу! Он то — босой, в рубашке, да еще веревкой подвязался.
Читать дальше