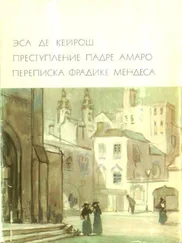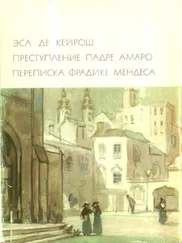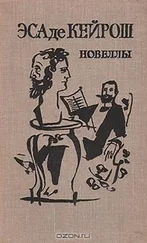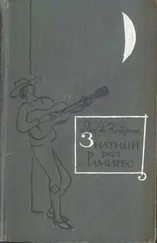— Не забудьте сказать мисс Мэри, сеньор, что вас направили к ней из «Отеля пирамид».
Я вдел в петлицу белую розу и вышел, сияя от радости. Едва я свернул в улицу Двух сестер, как увидел целомудренную часовенку, дремавшую в тени чинар под тихий плеск воды. Но праведный старец Иосиф, без сомнения, был занят в эту минуту более настоятельными мольбами, слетавшими к тому же с более достойных уст; мне не хотелось докучать добрейшему святому, и. я остановился под лиловой рукой, которая, растопырив пальцы, подстерегала мое беззащитное сердце.
Я вошел, волнуясь. За полированным прилавком, на котором благоухал букет роз и магнолий, сидела она и читала «Таймс»; на коленях у нее мурлыкала белая кошка.
Меня сразу покорили ее голубые глаза, глаза фарфоровой голубизны — чистые, небесные, каких не бывает в смуглом Лиссабоне. Но еще прелестнее были ее волосы, вьющиеся кудряшками, точно золотое руно; они были такие тонкие, мягкие, что хотелось навеки остаться тут и перебирать дрожащими пальцами эти нежные пряди. Они окружали сияющим нимбом земной красоты нежное, круглое личико, белое с розовым, точно молоко, куда подмешали немного кармина. Улыбнувшись и застенчиво опустив темные ресницы, она спросила, какие перчатки я желаю: лайковые или шведские?
Я пробормотал, жадно склоняясь над прилавком:
— Меня послал к вам Алпедринья.
Она вынула из вазочки розу с нераспустившимся бутоном и подала мне кончиками пальцев. Я порывисто прикусил цветок зубами. Это бурная ласка, видимо, понравилась, потому что лицо Мэри залилось румянцем, и она прошептала: «У, какой нехороший!» Я забыл святого Иосифа и благодарственные молитвы, и руки наши, соприкоснувшись на мгновение, когда она помогала мне натягивать светлую перчатку, более не разлучались на протяжении тех недель, что я провел в столице Лагидов, утопая в восторгах мусульманского рая.
Мэри родилась в Йорке, героическом графстве Старой Англии, где женщины расцветают смело и пышно, как розы в королевских садах. Она была такая недотрога, так заливисто смеялась от щекотки, что я дал ей смешное и нежное прозвище: «Марикокинья». Зато Топсиус, отдававший Мэри должное, называл ее «нашей символической Клеопатрой». Ей нравилась моя черная борода, и, не желая расставаться с теплом юбок Мэри, я не видел ни Каира, ни Нила, ни вечного Сфинкса, улыбающегося У врат пустыни людской суете…
Одетый, точно лилия, во все белое, облокотившись на прилавок и почтительно поглаживая кошку, я упивался утренними часами. Мэри была неразговорчива; но, когда она скрещивала руки и улыбалась своей милой улыбкой или привычным движением складывала «Таймс», сердце мое наполнялось светлым ликованием. Чтобы привести меня в восторг, ей даже не надо было называть меня «своим птенчиком» или «своим могучим португальцем»: мне довольно было заметить ее участившееся дыхание, видеть эту прихлынувшую волну нежности, сознавать, что породила ее жажда поцелуев… Ради этого стоило ехать в далекую Александрию и еще дальше и даже идти пешком, без передышки, до самых истоков Белого Нила!
По вечерам мы выезжали в обитой ситцем коляске на прогулку вместе с нашим всезнающим Топсиусом и медленно, блаженно катились вдоль канала Махмудие. Проезжая под пышной листвой мимо стены, за которой зеленели сады сераля, я вдыхал томительный аромат магнолий и другие дотоле незнакомые мне запахи, дышавшие еще не остывшим зноем. По временам белый или лиловый цветок мягко падал мне на колени. Сладко вздохнув, я щекотал усами нежную щеку моей Марикокиньи, и по всему ее телу пробегал трепет. На воде недвижно чернели тяжелые баркасы, что поднимаются вплоть до верховьев благодатного Нила, бросают якоря у развалин храмов, проплывают мимо зеленых островов, где дремлют крокодилы. Незаметно спускалась ночь. Коляска медленно несла нас в благоуханной черноте. Топсиус вполголоса читал стихи Гете. Далекие силуэты пальм темнели на желтизне заката, точно бронзовый орнамент на золотой пластине.
Марикока ужинала с нами в «Отеле пирамид». В ее присутствии Топсиус весь распускался цветами эрудированной любезности. Он описывал нам вечерние празднества в древней Александрии Птолемеев, справлявшиеся на Канопском канале; по обоим берегам, утопая в садах, высились дворцы, мимо них под звуки лютни медленно проплывали ладьи с шелковым пологом; в апельсиновых рощах плясали жрецы Озириса, накинув на плечи леопардовые шкуры; на террасах дворцов самые знатные женщины являлись народу и пили за Венеру Ассирийскую из чашечки лотоса, служившей бокалом. Разлитая в воздухе нега размягчала души; даже философы забывали о незыблемых принципах добродетели.
Читать дальше