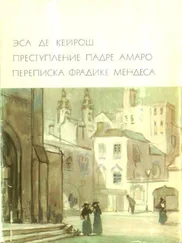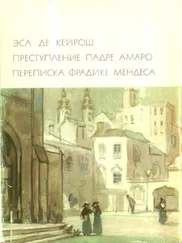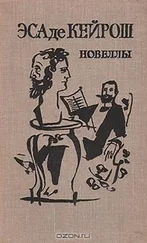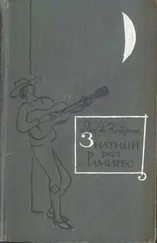— Превосходно. Она писала что-нибудь о Розе?
— Да, вскользь, что Роза здорова… Должно быть, уже взрослая девушка.
— И должно быть, прехорошенькая!
Они поднялись по железной винтовой лестнице, которая вела из сада прямо на половину Карлоса. У застекленной двери Эга снова остановился и задал последний вопрос, дабы полностью удовлетворить свое любопытство:
— И как ты принял эту новость?
Карлос закурил сигару. Затем, бросив спичку на железный балкончик, увитый плющом, сказал:
— Как исход, окончательную развязку. Как если бы она умерла, с ней умерло все прошлое, и теперь она возрождается в другом образе. Это уже не Мария Эдуарда. Это мадам Трелен, французская дама. И с этим новым именем все, что было, кончилось, кануло в бездну: прошлое погребено, от него не осталось даже воспоминания… Вот как я принял эту новость.
— Ты в Париже никогда не встречал сеньора Гимараэнса?
— Нет, ни разу. Он, должно быть, умер.
Они вошли в комнату Карлоса. Виласа, ожидая, что Карлос посетит «Букетик», велел ее подготовить; и она сияла холодной чистотой — гладкий мрамор пустых комодов, непочатая свеча в подсвечнике, бумазейное покрывало, аккуратно сложенное на кровати без полога. Карлос положил шляпу и трость на свой старый рабочий стол. Потом сказал, как бы подводя итог:
— Вот тебе наша жизнь, милый Эга. В этой комнате я не один вечер страдал в полной уверенности, что для меня все кончено… Думал убить себя. Думал уехать к траппистам… И все было непоправимо, безысходно… Но вот прошло десять лет — и я снова здесь…
Он остановился перед зеркалом, висевшим между двумя резными дубовыми консолями, пригладил усы и грустно улыбнулся:
— Да еще растолстел!
Эга тоже обвел комнату задумчивым взглядом.
— А помнишь, как однажды ночью я пришел сюда, наряженный Мефистофелем, в полном отчаянии?
Карлос издал восклицание. В самом деле — Ракел! Что Ракел? Что стало с Ракелью, цветком земли Иудейской?
Эга пожал плечами:
— Здесь она — превратилась в настоящее страшилище.
Карлос пробормотал: «Бедняжка!» Вот и все, чем была помянута великая романтическая страсть Эги.
Карлос наткнулся на портрет, забытый на полу у окна и повернутый к стене. Это был портрет его отца, Педро да Майа, — замшевые перчатки в руке, большие арабские глаза на печальном и бледном лице, пожелтевшем от времени. Карлос поставил портрет на комод. И слегка обмахнул его платком.
— Больше всего мне жаль, что у меня нет портрета деда!.. Во всяком случае, этот я увезу в Париж.
Эга, утонувший в глубине мягкой софы, спросил, не пробуждалось ли у Карлоса в последние годы смутное желание вернуться в Португалию…
Карлос посмотрел на него с испугом. Зачем? Чтобы уныло бродить от Клуба до Гаванского Дома? Нет! Париж — единственное место на земле, соответствующее тому образу жизни, который он окончательно избрал: «богатый человек, живущий в свое удовольствие». Прогулка верхом в Булонском лесу; завтрак у Биньона; прогулка в коляске по Бульвару; час в клубе за газетами; фехтовальный зал; вечером — Comedie Francaise или soiree; летом — Трувиль, зимой — охота на зайцев; и в течение всего года — женщины, бега, научные занятия, bric-a-braque и немного blague. Что может быть более безобидным, более пустым и более приятным?
— Вот тебе человеческая жизнь! За десять лет со мной ничего не случилось, не считая того, что однажды сломался мой фаэтон по дороге в Сен-Клу. О чем сообщила «Фигаро».
Эга встал, безутешно развел руками:
— Мы проиграли жизнь, друг мой!
— Я тоже так полагаю… Но ведь и все ее в той или иной мере проигрывают. Та жизнь, которую мы создаем в своем воображении, в реальности всегда терпит крах. Каждый из нас говорит себе: «Стану таким, потому что истинная красота в том, чтобы быть таким». И никто не становится таким, а всегда «этаким», как говаривал бедняга маркиз. Порой из нас получается даже нечто лучшее, но непременно другое.
Эга молча вздохнул в знак согласия и начал натягивать перчатки.
В комнату проникли холодные и печальные зимние сумерки. Карлос надел шляпу, и друзья спустились по лестнице, обитой вишневым бархатом, мимо все еще висевшего на стенах старинного оружия. Выйдя на улицу, Карлос остановился и долго смотрел на огромный темный дом, который в этот сумеречный час выглядел еще более мрачным и похожим на церковное строение: суровые стены, ряды черных закрытых окон, в первом этаже забранных решетками; безмолвный, навсегда покинутый, несущий печать разрушения.
Читать дальше