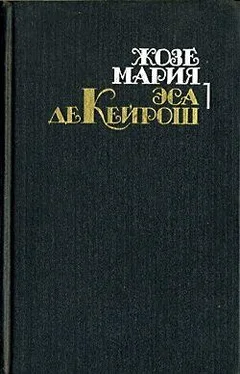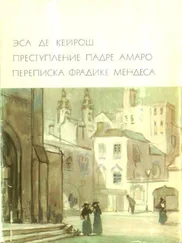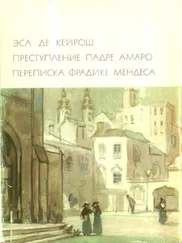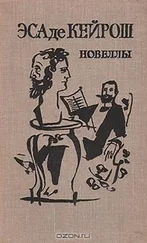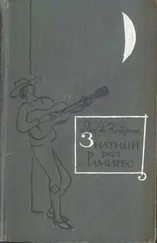Отсюда начинались широкие кочевья, и из окна своей комнаты я мог видеть темные круги юрт, крытых войлоком и бараньими шкурами, а иногда и быть свидетелем, как, покидая свое стойбище, племя длинными караванами, погоняя стада, уходило на запад…
Настоятелем монастыря был преподобный отец Джулио. Длительное пребывание среди желтой расы не могло не сказаться на его внешнем виде — он походил на китайца; ведь когда я встречал его на территории монастыря в фиолетовом одеянии, с длинной косицей, вызывавшей почтение бородой и большим веером, которым он обмахивался, мне он казался мудрым ученым мандарином, раздумывающим в тиши храма над неясными местами священной книги Чжоу. Это был святой человек, однако исходивший от него чесночный дух, без сомнения, был способен отогнать самые страждущие и нуждающиеся в утешении души.
Я всегда буду помнить дни, проведенные в том монастыре! Моя побеленная комната с висящим на стене черным распятьем очень походила на келью. Просыпался я с колокольным звоном, зовущим к мессе, и шел слушать ее из уважения к старым миссионерам. Как же трогательно было там, в этих монгольских землях, столь далеких от католической родины, видеть крест на одеяния склонившегося перед алтарем священника и слушать в прохладной тиши церкви «Dominus vobiscum» и «Cum spiritu tuo…» [16] «Господь с вами» и «С духом твоим…» (лат.).
.
Во второй половине дня я шел в школу при монастыре, чтобы посмотреть, как маленькие китайцы склоняют hora, horae… [17] Час, часа… (лат.)
А прохаживаясь после трапезы по монастырской галерее, слушал рассказы о миссионерах, живущих в далеких странах, об апостольских странствиях в страну трав, о пребывании в тюрьмах, долгих переходах и многочисленных опасностях — словом, обо всем, что достойно быть описанным в героической хронике святой веры…
О себе же, о своих фантастических приключениях я в монастыре даже не обмолвился, вел себя, как обычно ведут любознательные туристы, все заносящие в свои записные книжки, и ждал, предаваясь благостному спокойствию монастырской жизни, когда зарубцуется мое рваное ухо…
Решимость как можно скорее покинуть Китай — эту варварскую и ненавистную мне теперь империю — меня не оставляла.
Ведь стоило мне вспомнить, что сюда, в Китай, я приехал с Крайнего Запада и с одним-единственным намерением — отдать свои миллионы одной из китайских провинций и что, ступив на землю этой провинции, я был ограблен, избит каменьями и чудом спасся от смертоносных стрел, мною тут же овладевала глухая злоба, и я часами мерил из конца в конец свою комнату, обдумывая план мести этой Срединной империи.
Проще всего было бы уехать и увезти все свои миллионы. Теперь мой план искусственного воссоздания фигуры Ти Шинфу на благо Китая мне казался нелепой фантазией и глупостью. Ведь я и в самом деле не знал ни китайского языка, ни обычаев, ни обрядов, ни законов, ни ученых этой страны, а потому вполне понятно, что привлек к своим богатствам внимание этого народа, который уже сорок четыре столетия пиратствует на море и грабит на суше.
К тому же Ти Шинфу с его бумажным змеем больше не преследовал меня. Как видно, дух его улетел к праотцам на китайские небеса, и то, что он не появлялся, в значительной степени облегчало мои душевные муки, естественно, ослабив желание искупить свою вину…
Старого ученого, без сомнения, утомляли путешествия из несказанно блаженных для него мест в места столь отдаленные, как мой дом, где он и отдыхал на моей мебели. А увидев мои старания и уверовав в мое желание быть полезным его роду, его провинции, его расе, удовлетворился и с удобствами устроился на вечный покой. Я больше никогда не увижу его желтого брюха!..
И тут мне так захотелось оказаться у себя на Лорето или на одном из бульваров, где теперь в полной безопасности и свободно я смогу вкушать радости, доставляемые мне моим золотом, и собирать мед с цветов цивилизации…
Но а как же вдова Ти Шинфу, как же изнеженные дамы его потомства и маленькие внуки? Неужели, холодных и голодных, я их брошу на грязных улицах Тяньхо? Нет. Ведь они-то не повинны в том, что чернь забросала меня камнями. И я — христианин, нашедший убежище в христианском монастыре, где у моей кровати на тумбочке лежит Евангелие, а все, кто меня здесь окружают, — воплощенное милосердие, нет, я не мог уехать из империи, не возместив нанесенного им убытка и не вернув достойного их комфорта, о котором пишет автор-классик в «Книге о сыновней почтительности»…
Читать дальше