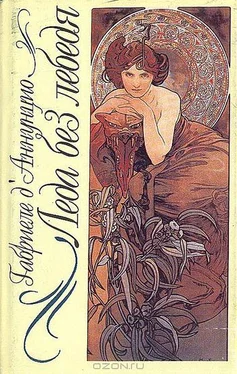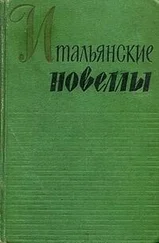Биаше считали придурковатым, но на своей колокольне он был королем и поэтом. Когда прозрачное небо изгибалось над цветущей равниной, глаза Адриатики наполнялись солнцем и оранжевыми парусами, когда на улицах кипела работа, он на галерее, словно вольный сокол в часы досуга, приникал ухом к бронзе Волка, своей гордости и своего любимца, который однажды ночью рассек ему лоб, и постукивал по нему костяшками пальцев, прислушиваясь к протяжному, поразительному гулу. Рядом поблескивал изящный Певчий, весь в узорах и цифрах, с барельефом, изображающим Святого Антония. Колдун в глубине скалился размытым зевом с обломанными краями, трещина рассекала вдоль его тело. Какие фантазии приходили Биаше в голову, какие странные мечты об этих трех колоколах! Какие исполненные страстной истомой стихи! И образ грациозной красавицы Дзольфины всплывал из глубин этих звуков в знойный полдень или на закате, когда Волк благовестил меланхолично и устало, а звон медленно ослабевал и замирал.
* * *
Однажды днем в апреле они встретились на зеленой равнине, белеющей ромашками, за орешником Монны. Небо, опаловое в вышине, на востоке светилось фиолетовыми пятнами. Дзольфина, напевая, косила траву для стельной коровы, аромат весны ударил ей в голову, вызывая головокружение, словно дым сусла в октябре. Она нагнулась, юбка легко скользнула по голому телу, будто чья-то ласковая рука; она прикрыла глаза от удовольствия.
А вот и Биаше шагает навстречу ей враскачку, кепка — на затылке, за ухом — букетик гвоздик. Он не урод, Биаше, у него черные большие глаза, исполненные буйной печали, почти ностальгии, глаза дикого зверя в клетке, голос не лишен привлекательности, есть в нем какая-то нечеловеческая глубина, ему не свойственны модуляции, гибкость, мягкость; один, в обществе своих колоколов, там, высоко, в море света и воздуха, он усвоил звучную, с неожиданно резкими, мрачно-гортанными металлическими нотами каденцию.
— О, Дзольфина, что вы делаете?
— Кошу траву для коровы дядюшки Меккеле, — объяснила белокурая Дзольфина, не разгибаясь; грудь у нее колыхалась, когда она собирала скошенную траву.
— О, Дзольфина, вы чувствуете этот запах? Я был наверху, на колокольне, видел барки на море, их паруса раздувал северо-восточный ветер, а вы прошли внизу, напевая «Цветочек полевой», вот что вы пели…
Он умолк, чувствуя, что у него перехватило дыхание, они стояли молча и слушали протяжный шорох орешника и далекий плеск моря.
— Хотите, я вам помогу? — прервал наконец молчание бледный как полотно Биаше, он склонился над травой и жадно отыскивал среди чувственно свежих растений руки вспыхнувшей Дзольфины.
На жаре две яркие ящерицы проскользнули через поле и стремительно скрылись в кустах боярышника.
Биаше схватил ее за руку.
Оставь меня! — прошептала бедняга, голос ее не слушался. — Оставь меня, Биаше! — и прижалась к нему, подставляя лицо и отвечая на поцелуи. — Нет, нет! — повторяла она, протягивая свои красные, влажные, как плоды кизила, губы.
* * *
Их любовь подрастала вместе с лугом, а колышущиеся травы все поднимались и поднимались; среди этого моря зелени Дзольфина, прямая, с красным платочком, повязанным на голове, казалась прекрасным пышным маком. Какие жизнерадостные частушки звучали под низкими рядами яблонь и белого тутовника, в кустарниках, изобиловавших мушмулой и жимолостью, среди желтых полей цветущей капусты, когда Певчий с колокольни Святого Антония изощрялся в радостных вариациях, словно влюбленная сорока.
Но однажды утром, когда Биаше ждал ее в Фонтаччьа с прекрасным только что собранным букетом левкоев, Дзольфина не пришла: она слегла с температурой — заразилась черной оспой.
Бедняга Биаше, узнав об этом, покачнулся сильнее, чем в ту ночь, когда Волк рассек ему лоб, кровь похолодела у него в жилах. И все-таки ему пришлось подняться на колокольню и с усилием тянуть за веревки, в отчаянии он слушал весь этот шум вербного воскресенья, песнопения и молитвы, смотрел на святотатственное сияние солнца, на оливковые ветви, на яркие полотнища, на дымок ладана, а его несчастная белокурая подруга, думал он, одному Богу ведомо, как страдает, о Благословенная Мадонна, она так страдает!
Это были ужасные дни. С наступлением темноты он кружил вокруг дома больной, словно шакал вокруг кладбища, останавливался у закрытого окошка, освещенного изнутри, вспухшими от слез глазами смотрел на тени, мелькавшие в окне, прислушивался, крепко прижимая руку к изболевшейся от вздохов груди, затем продолжал кружить, сам не свой, или бежал укрыться на галерее колокольни. Там длинными ночами рядом с недвижными колоколами, убитый горем, бледный как покойник, он смотрел на пустынную дорогу, где под лунным светом царило безмолвие, вдали виднелось печально поблескивающее море, волны с монотонным бормотанием набегали на безлюдное побережье, и надо всем простиралась нестерпимая голубизна. А под крышей, которую едва заметно сверху, мучилась в агонии Дзольфина, распростертая на постели, беззвучная. С ее почерневшего лица стекали густые гнойные выделения, она ничего не произнесла, даже когда лунный свет поблек в предрассветных сумерках, и шепот молитв сменился всхлипываниями. Она несколько раз с трудом приподняла свою белокурую голову, будто хотела сказать что-то, но слова так и не сорвались с ее губ, ей не хватило дыхания, свет померк, она хрипло потянула ртом воздух, словно прирезанный агнец, и окоченела.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу