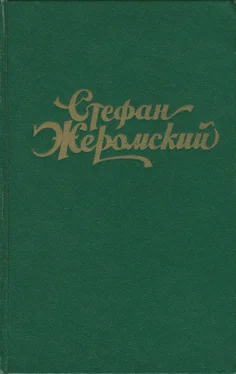Дверь тотчас же открылась, и панна Мария встретила гостя очаровательной улыбкой. Изящным движением он снял шубу и крепко пожал желанной подруге ручку, выразив тем самым весьма красноречиво свою сверхчувствительность к женским прелестям. Он так увлекся созерцанием панны Марии, что не сразу заметил двух барышень, которые при входе его поднялись со своих мест под окном. Какая досадная неожиданность! Он вежливо поклонился незнакомкам, присел на единственный в комнате стул и, пустив в ход свое из ряда вон выходящее уменье вести разговор, стал искоса осматриваться.
Панна Мария вовсе не была так прекрасна, как ему показалось при первой встрече: это была худая, изнуренная трудом, сутулая девушка. Дешевые белила не красили ее. Товарки выглядели еще хуже. Это были молодые девушки, слишком рано сломленные какой‑то жестокою силой. То не был разврат, — пан Владислав это сразу увидел и по убожеству их жилища, и по жалким постелям без подушек, покрытым заплатанными одеялами, и по всему поведению девиц. Все три были смущены и робели, глаза их смотрели хмуро и загадочно, с упорной и неприятной подозрительностью, которая то и дело сменялась выражением не то восхищения, не то раздражения.
— Вы живете тут втроем? — сладким голосом спросил обозленный пан Владислав.
— Да, — ответила панна Мария, кусая губы. — Это мои подружки, приятельницы: мы работаем в одном бельевом магазине.
— Ах, как это должно быть приятно… Три, так сказать, русалки…
— Не всегда, — отрезала сидевшая под окном панна Казя. — Русалки, наверно, каждый день обедают, не удивительно, что им приятно…
— То есть как это… обедают?
— Да видите ли, сударь, — пояснила панна Мария, — я получаю от нашей хозяйки восемь рублей, а Казя и Хелька по пяти, ну, и обед в рабочие дни. За квартиру мы платим четыре рубля, а тех четырнадцати, что остаются, нам не хватает. Вот и приходится по воскресеньям класть зубы на полку.
— Если только не удастся заманить какого‑нибудь легковерного кавалера, который принес бы сарделек, — подхватила Казя, с ядовитой усмешкой поглядывая на панну Марию.
Та посмотрела на Казю с выражением молчаливой грусти, затем подошла к ней и нежно погладила ее коротко остриженные волосы.
Когда после этого она повернулась к пану Владиславу, в глазах ее светились две робкие слезинки.
— Видите ли, сударь, — сказала она, — доктор велел ей, да и Хельке тоже, есть каждый день мясо, пить рыбий жир…
— И вы придумали очень остроумный способ добывать для панны Казн мясо и рыбий жир, — сказал, поднимаясь, пан Владислав.
— Легкий и нелегкий… Если вы, сударь, сердитесь на нас, то что же делать…
— И не думаю сердиться! И если дамы позволят мне отлучиться на минуту… я сейчас же вернусь.
— К чему? Хеля может сама, уверяю вас…
— Ну и прекрасно, — проговорил пан Владислав, вручая панне Марии последний рублишко. — Может быть, тут хватит и на бутылку рыбьего жира для панны Казимиры…
Вскоре пан Владислав выпил пива за здоровье подруг. Доброе и теплое чувство охватило его душу, когда он увидел, с каким аппетитом девушки проглотили и булки и сардельки.
После «пиршества» пан Владислав тотчас же удалился. Глубокая грусть охватила его, когда он проходил по узким и темным коридорам дома. Он вытягивал руки, ощупью ища дороги, и когда дотрагивался до осклизлых стен, по которым сочилась вечная сырость, ему казалось, что пальцы его омочены слезами нищеты, которая здесь ютилась и ютится, страдает и бьется в борьбе с голодом и холодом… Слезы эти проникают в сердце, отравляют, как яд…
Он остановился на мгновение и слушал, как душа его слагает слова клятвы…