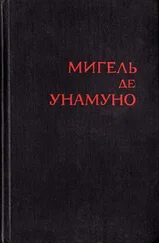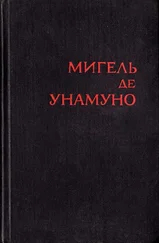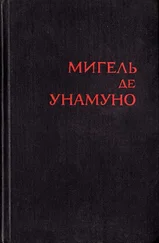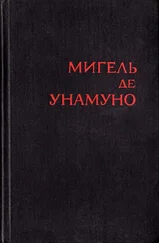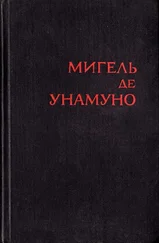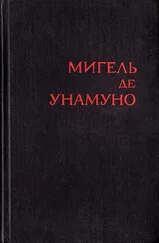Уже довольно давно Рикардо понял, что утомлен этой любовной интрижкой. Долгие стояния у садовой решетки тяготили его, как с неохотой исполняемый долг. Нет, он не был влюблен в Лидувину по-настоящему, да и вряд ли хоть когда-нибудь его чувство могло бы назваться любовью. То был мимолетный обман сердца, смятение юноши, который, влюбившись в женское начало вообще, возгорается при виде первой, чьи лучезарные очи сверкнули на его пути. А теперь любовные шашни мешали пресуществиться судьбе, столь четко обозначенной свыше. Слова, прочитанные им в Евангелии однажды утром, когда после причастия он открыл Книгу на Божье усмотрение, гласили ясно, и ошибки тут быть не могло: «Идите по всему миру и проповедуйте Благую Весть». Он должен стать проповедником Евангелия, а для этого необходимо сделаться священником, еще лучше – постричься в монахи. Он рожден, чтобы быть апостолом слова Божия, а не отцом семейства, еще менее – мужем и уж никак не женихом.
Решетка двора Лидувины выходила в переулок, зажатый между глухими стенами монастыря урсулинок. [21] Урсулинки – монахини ордена Святой Урсулы, основанного в 1537 году с целью воспитывать девочек и заботиться о больных.
Над стенами возвышалась широкая крона крепкого и густого кипариса, где всегда чирикали воробьи. Когда опускались сумерки, иззелена-черный силуэт дерева рисовался на пламенном фоне заката, и как раз тогда колокола собора струили над безмятежностью предвечернего часа медленные волны молебствий, направленные в бесконечность. И этот голос веков заставлял Рикардо и Лидувину прерывать беседу: девушка осеняла себя крестным знамением, углублялась в свои мысли, и свежие алые губы шептали молитву; друг же ее опускал очи долу. Опускал очи, думая о том, что предает свою судьбу, – язык, отлитый в бронзе, все твердил ему: «Иди по всему миру и проповедуй Благую Весть».
Беседы протекали вяло и как-то натянуто. Железная ограда, разделявшая невесту с женихом, являлась воистину решеткой тюрьмы, ибо они и были узниками – даже не любви и нежности, а постоянства и чувства чести. И Рикардо, вглядываясь в эбеновые зрачки Лидувины, уже не возносился душою, как в прежние времена.
– Если у тебя есть дела, из-за меня не пренебрегай ими, – сказала она как-то раз.
– Дела? Да у меня только и дел, нена, [22] Нена – детка, малютка, девчурка (исп., ласк.).
что глядеть на тебя, – отозвался он.
И оба помолчали с минуту, ощущая пустоту прозвучавших слов.
Беседуя, они почти всегда злословили – большей частью о других парочках в городке. А иногда у Лидувины вырывались смутные жалобы на жизнь в ее семье, с несчастной, полупарализованной, вечно молчащей матерью, с сестрой, иссохшей от зависти, – и без единого мужчины в доме. Она ничего не помнила об отце и очень мало – о братике, с которым играла, как с куклой, и который ускользнул у нее из рук, от ее поцелуев, как ускользает предутренний сон.
Каждый вечер Рикардо уходил от решетки, укрепившись в мысли, что любовь его умерла, не успев родиться, но все время возвращался, влекомый неодолимою силой. Его привораживала кроткая, унылая меланхолия, какую источал, казалось, самый воздух этого проулка. Чернеющий кипарис, высокие, покрытые трещинами стены монастыря, пламя вечерней зари, звонкое чириканье воробьев – все это как бы и создано было только ради того, чтобы сопутствовать черным очам Лидувины и черным волнам ее волос. Сколько раз созерцал Рикардо алый отблеск заката на волнистых прядях своей невесты! И тогда сама она впитывала в себя нечто от этого багреца, нечто от пения колоколов, одухотворявшего ее своею звучностью, и несчастный невольник любовной рутины думал: а не Лидувина ли – эта Благая Весть, которую он, по собственному ощущению, призван проповедовать? Но очень скоро в прядях, где угасал последний закатный луч, Рикардо начинал видеть волны черной реки, что несут доверившегося ей пловца в открытое море на верную смерть.
Без сомнения, с этим следовало покончить – но как? Как изменить привычке? Как нарушить данное слово? Как выказать себя легкомысленным и неблагодарным? Рикардо догадывался, даже знал наверняка, что Лидувина тоже разочаровалась в этой любви, устала от нее: они молча признались друг другу – взглядом, угасанием разговора, а более всего немой беседою глаз однажды после молитвы. Да, они, узники чести и приличий, проводили вечера в печальном бдении над умершим чувством. Нет, им невозможно стать такими, как прочие, те, кого они столько раз порицали. Но чтобы не уподобиться прочим, они переставали быть самими собой. Как же вызвать друг друга на объяснение, на взаимную исповедь, пожать на прощание руки и расстаться – в горести, да, но и со сладостью освобождения? Его ожидает монастырь, ее, может быть, душа другого мужчины, которому суждено сделаться спутником всей ее жизни.
Читать дальше