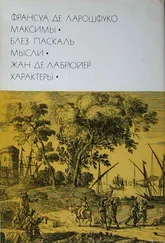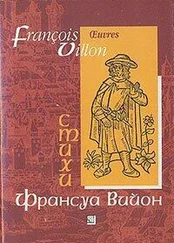В долине к северу от Апалачиколы темнела роща из кипарисов и сосен — ее называли Рощей крови. Дорога к ней шла через развалины какого-то неведомого сооружения, возведенного народом, ныне исчезнувшим. Посреди рощи была расчищена площадка — там-то и приносили в жертву воинов, захваченных в плен. Под клики торжества меня приводят туда. Приготовления к моей смерти в разгаре: уже вкопан столб Арескуи; падают под ударами топора сосны, вязы, кипарисы; начинают складывать костер; зрители устраивают полукруги сидений из древесных стволов и ветвей. Каждый старается перещеголять другого, изобретая пытку для меня: лот предлагает снять скальп, тот — выжечь глаза каленым железом. Я затягиваю песнь смерти:
«Меня не страшат пытки, о мускогульги! Я исполнен мужества, я бросаю вам вызов, я презираю вас больше, чем женщин! Мой отец Уталисси, сын Миску, пил из черепов ваших прославленных воителей, и вам не вырвать из моей груди ни единого стона!».
Воин, уязвленный моей песней, пронзил мне руку стрелой, и я сказал ему: «Спасибо, брат».
Как ни спешили палачи, им не удалось закончить приготовления к казни до захода солнца. Обратились к жрецу, и он воспретил тревожить духов тьмы; еще раз моя смерть была отсрочена, ее отложили до утра. Но индейцам так не терпелось насладиться зрелищем сожжения, они так боялись пропустить первый луч зари, что не ушли из Рощи крови, разожгли костры, принялись пировать и плясать.
Меня меж тем уложили на спину, опутали веревками шею, руки, ноги и привязали к кольям, вбитым в землю. На веревки легли воины, чтобы чувствовать малейшее мое движение. А ночная мгла все сгущается, постепенно стихают песни и пляски, в последних красноватых отблесках костров еще мелькают одинокие тени индейцев, но вот все засыпают; чем тише человеческие голоса, тем внятнее голоса пустынного края, и беспорядочный гул людского скопища сменяется жалобами ветра в листве. Наступила та глухая пора ночи, когда молодые индианки, недавно ставшие матерями, вздрогнув, просыпаются, ибо сквозь сон они слышат плач своих первенцев, требующих сладостной пищи. Я глядел в небо, где среди облаков блуждал тонкий серп луны, и размышлял о своей судьбе. Атала казалась мне чудовищем неблагодарности. Покинуть меня, когда я вот-вот взойду на костер, меня, который пламя костра предпочел разлуке с нею! И все-таки я по-прежнему ее любил и с радостью готов был умереть за нее.
Даже в самом полном блаженстве всегда скрыто жало тревоги, которое побуждает нас не упускать ни единого быстролетного мига счастья; тяжелая скорбь, напротив, бременем своим усыпляет: глаза, утомленные слезами, невольно смыкаются, а это означает, что и в несчастье мы не оставлены милостью провидения. Я невольно погрузился в тот глубокий сон, который порою нисходит на обездоленных. Мне снилось, что с меня сняли путы, и я испытывал облегчение, знакомое тому, кого милосердная рука освободила от долгого гнета оков.
Ощущение было столь явственное, что я открыл глаза. В луче луны, пробившейся сквозь облака, я различил склоненную надо мной высокую белую фигуру; она безмолвно развязывала веревки на мне. Я вскрикнул бы, когда бы такая знакомая рука не зажала мне рот! Оставалась всего одна веревка, но к ней, казалось, нельзя прикоснуться, не разбудив воина, налегшего на нее всем телом. Атала все же начинает развязывать веревку, воин, не совсем еще проснувшись, приподнимается. Атала застывает на месте и в упор смотрит на него. Индеец решает, что перед ним дух развалин, он снова ложится и, зажмурившись, взывает к маниту. Веревка развязана, я встаю и иду за своей освободительницей, которая, сжимая один конец лука, протягивает мне другой. Но сколько опасностей нас подстерегает! То мы чуть не наступаем на уснувших дикарей, то нас окликает дозорный, и Атала отвечает ему, изменив голос. Плачут дети, лают собаки. Едва мы выходим из опасных пределов, как лес оглашается воплями. Индейцы просыпаются, мелькает множество огней, мечутся воины с факелами в руках; мы бежим все быстрее. Когда над Апалачами занялась заря, мы были уже далеко. Какое счастье переполнило меня, когда я вновь оказался наедине с нею, с Атала, моей спасительницей, с нею, навеки мне предавшейся! Сперва я не мог найти слов, а потом, упав на колени перед дочерью Симагана, произнес: «Люди вообще мало что значат, а когда к ним нисходят духи, они превращаются в ничто. Ты дух, ты снизошла ко мне, и я не смею говорить с тобой». Улыбнувшись, Атала протянула мне руку. «Что мне остается, как не следовать за тобой, раз ты отказался бежать без меня? Нынче вечером я подкупила жреца подарками, напоила твоих мучителей огненной водой [13] Водкой.
, рискнула жизнью ради тебя, потому что ты готов был отдать свою ради меня, — сказала она. — Но, юный язычник, жертва будет обоюдной», — добавила Атала таким тоном, что мне стало не по себе.
Читать дальше