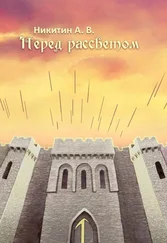— Василиса, — шепчет он опять после молчанья.
— Што?..
— Ты обойди кругом, там к замку веревочка прилажена…
— Боязно… — отвечает Василиса и осторожно оглядывается по сторонам.
— Чего боязно?.. Никто не увидит!..
— Боязно…
— Экая ты, право, — досадливо вырывается у Тартыги… — А я думал, ты смелая… Ну, спасибо и на том, что пришла…
После двухнедельного ареста Тартыга на свободе. Ни гармоники, ни новых сапог у него уже нет… Все это продано и пропито… На ногах его стоптанные городские башмаки, а на голове бурый, кем-то подаренный гречишник.
В берестовом кузовке, который принесла Василиса, — хлеб и бутыль молока.
В тени поповского омета с нахлестами свежей соломы пахнет приятно колосом. Мягкий холодок сентябрьского вечера бодрит…
От выкатившейся ранней луны длинные синеватые тени. Тартыга лежит на боку, упираясь локтем в землю, и раздумчиво кусает соломинку.
— Хорошо здесь, Василиса, — говорит он, вдыхая большими глотками воздух.
Василиса в большом теплом платке, наброшенном на плечи.
— А хорошо, так и оставайся здесь, Григорий, — робко отвечает она, удивляясь тому, что сказала, и прислушиваясь в пустоте к собственному голосу.
Тартыга стряхивает с себя мечтательные думы, так хорошо и уютно улегшиеся в его душе.
— Нет, не рука мне здесь оставаться. Делать мне у вас, Василиса, нечего…
В тени он весь мягкий, словно за полтора месяца жизни деревня стерла с него остроту и угловатость, которые он принес из босяцкой жизни в городе. И слова его так грустно вплетаются в нежную задумчивость ночи.
— Решай, Василиса, пойдешь со мной аль нет?
Василиса колеблется и нерешительно проводит рукой по лицу… От волнения, которое она испытывает, круглые стеклянные бусы поднимаются и опускаются на ее груди… И голову туманит от внезапно поднявшихся заманчивых желаний. Рисуется соблазнительный город, где большие каменные дома и интересные, нарядные и богатые люди. Тартыга убеждает ее.
— Что ж тебе здесь делать? А?.. Хозяйства у тебя нет, а в кухарках жить — так лучше в городу уж, а не в глуши.
Василиса жмется к омету и перебирает кончики платка… В недоумении спрашивает:
— Как же так-то?.. Взять вот да и пойти?..
Тартыга ждет такого ответа, скрывает, что ему больно выслушивать слова отказа, и продолжает убеждать ее:
— Вместе, Василиса, пойдем. На одном месте будешь сидеть — никакого толку не увидишь…
Василиса беспомощно и по-детски глядит, на него. Узкие, неразвитые ключицы ее выпирают острыми соединениями, и она походит на девочку.
— Боюсь я, Григорий!..
— Чего ты боишься?..
— Боюсь!.. У нас вот как-то Мирохина Данька в городу жила, а потом вернулась, — спортили ее — вся в пупырях и зачивренная… Барчонок, бают, спортил…
Тартыга убежденно и поучительно говорит:
— Что же из того?.. Испортиться везде можно!.. На этот предмет каждый человек наблюдать за собой должен. И в деревне можно. Твоему попу, я чаю, тоже пальца в рот не клади… Правда, Василиса, обижает тебя поп?
Василиса смущенно опускает вздрагивающие ресницы.
Ветер тихо стелет по земле тени и шелестит сонными серебряно-сизыми кустами полынка, отбежавшего от заросших полянок на вытоптанную плешивину около омета.
— Что же ты молчишь?.. Обижает? — участливо допытывается Тартыга.
Василиса краснеет. В тени не видно, как лицо ее мучительно движется от стыда… Тихо она отвечает:
— Нет, поп у нас строгий, не балуется…
— Известное дело — попадья есть, — говорит Тартыга. — Ну, а псаломщик?..
Василиса низко опускает голову, — ей тяжело сделать это признанье, — и она с усилием говорит:
— Псаломщик намедни в пуньке в самый угол загнал, всю руку досиня защипал, больно — страсть!..
Тартыга вдруг становится злым и острым, не похожим на того размечтавшегося деревенского, который только что сидел рядом:
— Жеребцы гладкие!..
Он свертывает из бумаги папироску, чиркает о коробку серной спичкой. Синее пламя фосфора шипит и обдает его едким запахом.
— Не подожги омета, — говорит Василиса.
Тартыга бросает тлеющую спичку на землю и небрежно отвечает:
— Не лиха беда, если и загорится!.. Не обеднеет твой поп.
Оба молчат. Тартыга сосредоточенно попыхивает папироской. Лицо его то освещается — с выпуклыми рельефами носа, бровей и черных усов, — то погасает, полное загадочных мыслей.
Докурив, он спрашивает:
— Что же, Василиса, решай куда-никуда!..
Василиса глубоко вздыхает…
— Замуж, что ли, хочешь выйти?.. Так ведь кто ж тебя, бобылку, возьмет? И к полевой работе ты непривычна!..
Читать дальше