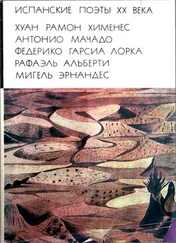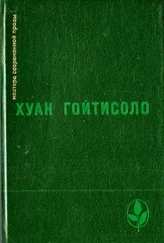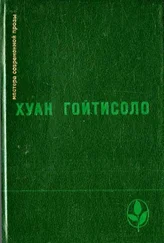И все... Сколько я пробыл там? Кто меня вывел? Когда это было? Я не знаю и не смог узнать ни от кого, Платеро... Но когда я об этом говорю, все догадываются:
— Да, старая арена, за крепостью, та, что сгорела... Тогда еще наведывались к нам тореро...
Здесь так пусто, что вечно кажется, будто кто-то есть... Охотники, спускаясь сюда с гор, ширят шаг и поднимаются на увалы, чтобы дальше видеть. Говорят, наведываясь в наши края, здесь ночевал Парралес, бандит... Красная скала стоит па восход, и порой силуэт какой-нибудь забредшей козы врезан на ней в желтую вечернюю луну. Промоина на пустоши, пересыхая лишь в августе, собирает янтарные, зеленые и розовые осколки неба, полуослепшая от камней, которые детвора бросает со скалы в лягушек или просто, чтобы гулко взбудоражить воду...
Я придержал на повороте Платеро, под рожковым деревом, которое сплошь чернело, заслоняя луг, сухими лезвиями стручков, и в раструб ладоней крикнул: «Платеро!»
Скала пересохшим голосом, еле смягченным близостью воды, ответила: «Платеро!»
Платеро резко повернул голову, напряженно вскинул и дернулся, готовый рвануться.
«Платеро!» — крикнул я вновь.
Скала вновь ответила: «Платеро!»
Платеро взглянул на меня, взглянул на скалу и вдруг, оскаленный в зенит, губы гармоникой, разразился нескончаемым ревом.
Скала протяжно и недобро ответила тем же ревом, чуть запаздывая на перекатах.
Платеро снова взревел.
Скала снова взревела.
Тогда Платеро с тупым суматошным упорством, чужой, темный, как ненастье, стал выкручивать шею и падать, силясь сорвать уздечку, убежать, оставить меня, пока я не повел его, тихо уговаривая, и голос его не стал мало-помалу его единственным голосом посреди агав.
Дети ужинали. На снежной скатерти дремал теплый и розовый свет, а расписные яблоки и красная герань расцвечивали грубой здоровой радостью тихий круг бесхитростных головок. Девочки держались, как подобает женщинам; ребята по-мужски толковали между собой. В глубине, давая малышу белую грудь, молодая мать, русая и красивая, смотрела на них с улыбкой. За окном в саду дрожала звездами светлая ночь, холодная и нелюдимая.
Вдруг Бланка хрупкой молнией метнулась к матери. Внезапная тишина — ив грохоте опрокинутых стульев за ней суматошно кинулись остальные, с ужасом оглядываясь.
Глупый Платеро! Прижав к оконному стеклу белую голову, вдвойне огромную от темноты и страха, он неподвижно и грустно смотрел в уютно освещенный дом.
Как облетели за ночь деревья, Платеро! Кажется, что они опрокинулись и, устлав землю ветвями, корнями врастают в небо. Посмотри на тополь — он похож сейчас на Лусию, акробатку из цирка, когда, расплескав по ковру огненные волосы, она поднимает сведенные вместе стройные ноги в сером кружеве, от которого они еще стройнее.
Теперь, Платеро, с голых ветвей птицы нас видят в золоте, как мы весной их видели в зелени. Свежий голос высокой листвы, каким сухим нищенским вздохом обернулся он внизу!
Взгляни, Платеро,— все усыпано сухими листьями. Когда мы вернемся сюда в воскресенье, ты не увидишь ни единого. Не знаю, где они гинут. Наверно, влюбленные птицы открыли им весной секрет этой прекрасной и тайной смерти, которой не будет ни у тебя, ни у меня, Платеро...
Когда мы с Платеро добираемся до апельсиновых деревьев, в лощине, белой от заиндевелого копытника, лежит тень. Еще не подернут золотом блеск бесцветного неба, и четок на нем тонкий рисунок агав по краю холма. Временами светлый шум, широкий и протяжный, заставляет поднять глаза. Это длинной стаей, воздушно перестраиваясь на лету, возвращаются к оливковой роще скворцы...
Бьют в ладони. Эхо... «Мануэль!» Ни души... Вдруг — стремительный гул, налитой и огромный. Сердце колотится в предчувствии всей его громадности. Мы прячемся за старой смоковницей...
Вот он. Красный бык, хозяин рассвета. Принюхиваясь, мыча, своенравно круша все на своем пути, он на миг замирает на холме — и долину, до самого неба, полнит отрывистый жуткий стон. Скворцы с шумом, который глушат удары сердца, безбоязненно кружат в розовой вышине.
В пыльном облаке, тронутом медью раннего солнца, бык ломает агавы на пути к колодцу. Наскоро пьет и, роскошный, огромней, чем само поле, поднимается, воитель, в обрывках виноградной лозы на рогах, к нагорному лесу, скрываясь, наконец, от жадного взгляда в ослепительной, уже сплошь золотой заре.
Читать дальше