И все-таки пессимизм, вполне возможно, преждевременен. Еще длятся переговоры, резервы лета еще не исчерпаны, положение еще вполне может быть восстановлено… Но рассудительность, хладнокровие не свойственны дачникам. Даже хозяева гостиниц, по уши завязанные на акциях лета, капитулируют. Нет! Подобный недостаток преданности, лояльности в отношении верного союзника отнюдь не свидетельствуют о высоком купеческом стиле. Все они — лавочники, мелкие, трусливые людишки, не способные видеть дальше собственного носа. Каждый из них прижимает к брюху мошну с накопленным. Они цинично сбросили маску предупредительности, снимают смокинги. Из каждого вылезает счетовод…
Мы тоже пакуем сундуки. Мне пятнадцать лет, и я совершенно не обременен обязанностями житейской практики. До отъезда еще почти час, и я выбегаю попрощаться с курортом, проверить достояние лета, посмотреть, что можно забрать с собой, а что придется уже навсегда оставить в этом обреченном на гибель городе. Но на крохотном парковом рондо, сейчас пустом и залитом солнцем, возле памятника Мицкевичу меня вдруг осеняет истина насчет перелома лета. В эйфории озарения я поднимаюсь на две ступени памятника, взором и раскинутыми руками размашисто описываю полукруг, словно обращаюсь ко всему курорту, и говорю:
— Прощай, Пора! Ты была прекрасна и обильна. Ни одно другое лето не может сравняться с Тобой. Сейчас я это признаю, хотя нередко из-за Тебя бывал несчастен и печален. Оставляю Тебе на память все мои приключения, рассеянные по парку, улицам и садам. Я не могу забрать с собой свои пятнадцать лет, они навсегда останутся здесь. А еще на веранде дачи, где мы жили, я положил в щель между брусьями рисунок, который сделал Тебе на память. Сейчас Ты уходишь в страну теней. Вместе с Тобой в край теней уйдет и весь этот городок с его виллами и садами. Вы не оставили потомства. И Ты, и этот город, вы оба умираете, последние в роду.
Но и Ты не безвинна, о Пора. И я скажу, в чем твоя вина. Ты не желала оставаться в границах реальности. Никакая реальность не удовлетворяла Тебя. Ты вырывалась за пределы любого воплощения. Не способная насытиться реальностью, Ты творила надстройки из метафор и поэтических фигур. Ассоциациями, аллюзиями, неуловимыми тонкостями проскальзывала между предметами. Каждую вещь отсылала к другой, а та ссылалась на следующую, и так без конца. Твое красноречие становилось утомительным. В конце концов надоедало качаться на волнах Твоей фразеологии. Да, именно фразеологии — уж прости мне это слово. Это стало ясно, когда тут и там во многих душах начала пробуждаться тоска по существенности. И с этой минуты Ты потерпела поражение. Стали явственны границы Твоей универсальности; Твой высокий стиль, Твое прекрасное барокко, которое в лучшие Твои времена было адекватно действительности, теперь оказалось манерой. Твоя сладостность и Твоя задумчивость несли на себе отпечаток юношеской экзальтации. Твои ночи были огромны и бесконечны, как мегаломанские восторги влюбленных, или оказывались сумятицей видений, как бред впавшего в галлюцинации. Ароматы Твои были чрезмерны и превосходили возможности человеческого восторга От магического Твоего прикосновения любой предмет дематериализовывался, устремлялся к дальним, ко все более возвышенным формам. Мы ели Твои яблоки, мечтая о плодах райских пределов, а глядя на Твои персики, представляли эфирные фрукты, которые вкушают одним лишь обонянием. На Твоей палитре были лишь высочайшие регистры красок, Ты не знала сытости и крепости темных, землистых, жирных оттенков коричневого. Осень — это тоска человеческой души по материальному, существенному, по границам. Когда по неведомым причинам метафоры, планы, людские мечты начинают тосковать по воплощению, приходит время осени. Фантомы, что до сих пор были рассеяны по самым дальним сферам людского космоса, окрашивая его высокие своды своими призрачными тенями, теперь тянутся к человеку, ищут тепла его дыхания, тесного уютного укрытия, алькова, в котором стоит его кровать. Дом человека становится, как вифлеемские ясли, средоточием, вокруг которого сгущают пространство все демоны, все духи горних и дольних сфер. Кончилось время прекрасных классических жестов, латинской фразеологии, южных театральных округлений. Осень ищет для себя выразительности, простецкой силы Дюреров и Брейгелей. Эта форма трескается от преизбытка материи, затвердевает свилеватостями и сучками, она хватает материю своими челюстями и клешнями, гнетет ее, давит, уминает и выпускает из рук полуобработанные колоды со следами борьбы, с клеймом жутковатой жизни в гримасах, которые она оттиснула на их деревянных ликах.
Читать дальше
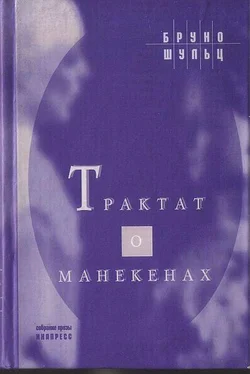





![Єжи Фіцовський - Регіони великої єресі та околиці. Бруно Шульц і його міфологія [З ілюстраціями]](/books/180052/Єzhi-fІcovskij-regІoni-velikoЇ-ЄresІ-ta-okolicІ-b-thumb.webp)



