Сараевские купцы и «порядочные люди» чурались беспокойного и наглого чужеземца, но среди праздных бесовских отпрысков и многочисленных недовольных янычар у него водилось немало друзей и почитателей, истинно ему преданных, не способных противостоять влиянию, которое на них постоянно оказывал этот гротескный, но отнюдь не смешной искатель приключений и весельчак.
Он жил взахлеб, во всем руководствуясь лишь своей шальной, но трезво мыслящей головой; свою философию он носил в крови. Цели его причудливо менялись, однако он шагал к ним с неизменной отвагой и бесцеремонностью. Подчинял себе людей, часто обходил, а куда чаще нарушал законы, следовал своим капризам и воплощал свои замыслы, никогда ни на один миг не стеснялся быть самим собой и даже не помышлял как-то оправдывать свою исключительность, глядя на обыкновенных, почитающих закон и порядок людей с дерзкой насмешкой, точно сам он был создан и существовал только для того, чтобы смущать и приводить в смятение окружающий мир.
Способный ненавидеть и любить страстно и глубоко, он всю свою жизнь легко вступал в отношения с людьми и еще более легко с ними рвал, сотни раз оказывался в трудных ситуациях, но никогда не попадал в безвыходные. Щедрый и до безрассудства великодушный во всем и ко всем, он в то же время проявлял изумительную находчивость и жестокосердие, когда требовалось раздобыть денег. Он жил в состоянии постоянной эйфории особого толка и широко распространял ее вокруг себя. Своим смехом он заражал даже тех, чьего языка не знал и кто не понимал его, а безудержными приступами гнева и ярости владел в совершенстве как настоящим оружием. Он умел презирать сословие, к которому принадлежал, и в то же время искусно и широко использовал его привилегии и предрассудки. Ему были неведомы жалость (и менее всего по отношению к самому себе!), зависть, печаль или малодушие. Он был неутолим в плотской любви, не останавливаясь ни перед чем и любя всегда и повсюду лишь одно-единственное безымянное женское тело. Он ничем не напоминал обольстительных красавцев, но, уродливый и резкий, привлекал женщин и покорял их сердца, и нет сомнения, что в памяти многих из них хранилось горькое, но дорогое воспоминание о его великодушной и горячей молниеносной солдатской любви. Он обладал физической силой, перед которой годы казались бессильными. (Люди, находившиеся у него в услужении, когда он жил в Сараеве, рассказывали чудеса об этой его силе.) Он ел и пил невообразимо много, но случалось неделями жил на хлебе и воде. В многочисленных войнах и сражениях, где он участвовал (тринадцати лет начал он службу кадетом на французском флоте!), был несколько раз ранен. Одной из самых тяжелых и самых славных его ран была последняя, полученная на австро-турецкой войне. Тяжелая турецкая бомбарда, метавшая два связанных цепью ядра, вспорола ему живот. Считали, что ему не выжить, но некий военный врач, фламандец, совершил истинный подвиг в хирургическом искусстве. Он, рассказывали, наложил на огромную рану серебряную пластину и столь искусно зашил ее, что Бонваль потом ездил верхом, ходил, охотился и фехтовал как юноша. (А поскольку у Бонваля была привычка часто «лопаться от гнева», то флегматичный его исцелитель с гордостью утверждал, что господин граф может лопнуть в любом ином месте, кроме того, которое он зашил ему и залатал.)
Возможно, впрочем, что это всего-навсего один из сотен сложенных о нем анекдотов.
Таков был «шалый француз», как окрестили его в Сараеве, буйный, чуточку сметной, очень неудобный и тем не менее привлекательный человек; верный себе, он приводил в смятение и смущал мирный и богатый город Сараево в течение своего почти двухлетнего там пребывании. А потом осталась и долго жила о нем память; в этой памяти он выглядел богаче и красивее, чем на самом деле, даже тогда, когда от всей его неукротимой плоти сохранилась лишь горсть праха в старинном тюрбе в Стамбуле. Вот почему он и сейчас барабанит по моей двери, требуя, чтобы я впустил его без очереди, но праву своего бонвальского первородства, которое он считает вечным, повсеместно признанным и неопровержимым. Однако я не люблю грубых и наглых людей и заставляю его ждать. Если подчас нам и приходится уступать живым, то покойнику — необязательно. Да и ждет он не в одиночестве, а в доброй компании. Здесь есть еще один паша. Я понимаю, что кичливый граф Бонваль никогда и ни за что не уступит ни на йоту своего права первенства, каким он обладает по рождению и какое с честью пронес через всю свою шальную и необыкновенную жизнь, но и мне нелегко оставаться безучастным к другому зову, хотя он-то совершенно ненавязчив и почти неприметен.
Читать дальше


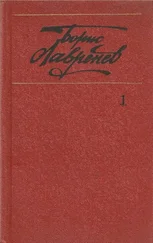
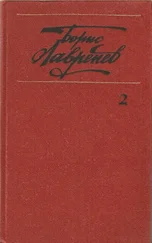
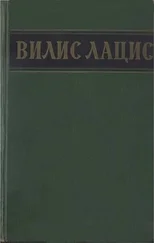



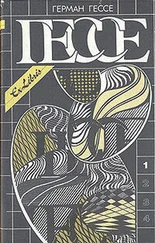
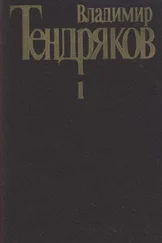
![Василий Кондратьев - Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres]](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-thumb.webp)
![Эжен Ионеско - Между жизнью и сновидением [Собрание сочинений - Пьесы. Роман. Эссе]](/books/422894/ezhen-ionesko-mezhdu-zhiznyu-i-snovideniem-sobranie-thumb.webp)
