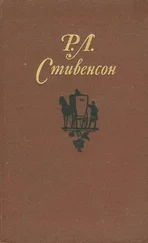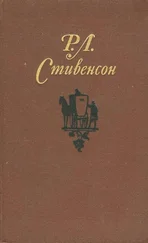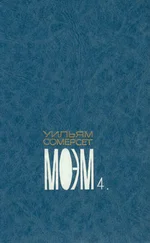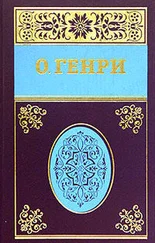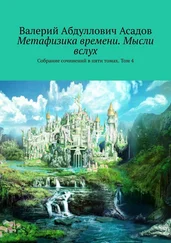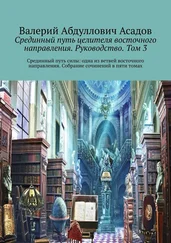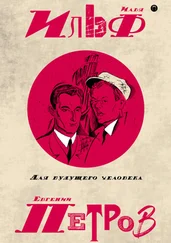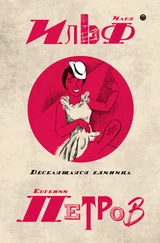Так и бродили они по Торжку: Мансуровы, Львовы, Мунте, Повало-Швейковские, Кирсановы, Всеволожские и Балавенские; бродили, постоянно собираясь друг у друга за картежными столами в винт и преферанс, а то и в железку. Мало кто из них сумел устроиться на советскую службу. Одни просто и откровенно не умели ничего делать, другие, как, например, Ольга Сергеевна Балкашина, не хотели идти на нее из принципа. Эти последние обычно держали коров и, продавая часть молока или масла, кое-как кормились, а не то — просто откровенно нуждались, вроде семьи Львовых, кочуя по знакомым, а когда становилось совсем невтерпеж, выезжали в пригородные деревни подкормиться у знакомых и благожелательных крестьян. В Торжке таких помещиков было столько, что, несмотря на постоянные встречи одних с другими, не все были даже знакомы между собой. Иных знали только по фамилиям и внешнему облику, раскланиваясь при выходе из церкви или встречах на улице, других не знали даже и настолько. Тетя Катя, тотчас после отъезда в деревню тети Сони с девочками, тоже перешла на скотоводческо-птицеводческое хозяйство и осуществила свою давнишнюю мечту — приобрела корову. Был мобилизован более чем скромный фонд принадлежавших ей драгоценностей, в который входили три или четыре броши с камеями очень хорошей работы и старинные браслеты, широкие, в четыре-пять сантиметров, золотые (или позолоченные — не знаю), с несколькими рядами драгоценных, но очень маленьких камушков, названия которых, читаемые по первым буквам, образовывали какие-нибудь французские мадригалы комплиментарного свойства. Тетя Катя не раз показывала мне, как это расшифровывается, бойко перечисляя эмероды-изумруды, диаманты-бриллианты, сапфиры и гранаты, рубины и аметисты. Однако же все это вместе представляло собой не слишком большую материальную ценность и, чтобы быть превращенным в корову, нуждалось в дополнении камей, золотых империалов и десятирублевиков. Наконец, к всеобщей радости, во дворе появлялась корова, уходом за которой с охотой занималась Паша, а тетя Катя с книжкой усаживалась неподалеку от наседки, пасущей свой цыплячий выводок, с писком разбредавшийся под огромными лопухами. Увы, счастье бывало недолгим: через год корова почти переставала доиться и оказывалась яловой, а чуть подросших цыплят начинал похищать ястреб, и тогда приходилось думать, не начать ли все сначала. А начинать с каждым разом становилось все труднее…
Забравшись на кресло с ногами, сижу, читаю. Книга увлекательная: «Дочь Монтесумы» Райдера Хаггарда. Она забирает все внимание, тем более, ничто его не отвлекает. В квартире тихо, как будто никого и нет, только Паша на кухне иногда звякнет какой-нибудь посудой — готовит обед себе и тете Кате. Однако настоящей тишины кругом все же нет. Уже несколько минут, как вокруг меня возник странный, непривычный шум. Он, медленно нарастая, движется, постепенно усиливаясь и заставляя как-то осознать себя и оторваться от книги. Оставив ее на кресле, подхожу к окну. Все как всегда: и монастырь на противоположном берегу, и пасмурный денек с ранневесенним ветром, и одетая льдом река внизу. Но, взглянув на эту реку, я отчего-то чувствую легкое головокружение; чем дольше я смотрю на нее — тем сильнее головокружение. Почему бы? Да ведь она движется! Движется вся, как есть, вместе со своими прорубями и тропинками. Так вот это-то и значит «лед тронулся»! Сколько раз слышал, а вижу впервые. Не только вижу, а и слышу — все вместе. И с каждой минутой сильнее скрежет, хруст и мягкие тупые удары; они сливаются в охватывающий со всех сторон непрерывный гул. А снежное поле, занимающее всю реку, движется медленно и торжественно, все целиком… Надо скорее на улицу, но страшно оторваться от окна: а вдруг, пока оденешься и выбежишь из ворот, все это кончится. И все-таки надо. Оделся, выбегаю… Нет! Не кончилось…
Здесь, на самой кромке набережной, зрелище еще удивительнее: плавное неторопливое движение ледяного поля, с его нарастающим шелестом, и в противоположность ему — у берега, где вздувшаяся река переполнилась и подступает к самым ногам. Вот они, края этого поля, в каких-нибудь полутора-двух шагах от меня, ломаются и, громоздя льдина на льдину, то и дело врезаются в берега тупо и упорно, раз за разом осыпаемые жирной черной землей. Обломки льдин тонут в зеленоватой мутно-стеклянистой воде. А на том берегу, как всегда, над белой монастырской стеной привольно разместилась группа храмов: посередине, между двух колонн летнего собора, фреска с изображением возносящегося Спасителя, в розовых и синих одеждах, правее — колокольня, откуда несколько раз в день плывет низкий, густой звон самого большого в городе колокола. Все это кажется совсем рядом, однако путь «к угоднику», как говорят все новоторы, в это время года от нашего дома не близкий: по реке нельзя ни пешком, ни на лодке перевоза — надо обходить: идти набережными больше версты до моста, а там другим берегом обратно. Но, тем не менее, на все важнейшие великопостные службы ходим только туда. Там всего лучше выдерживается этот особый ритм, неторопливый и торжественный, создающий уже с первого дня поста совершенно особое настроение.
Читать дальше