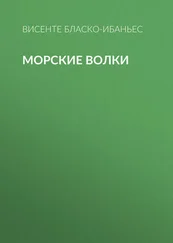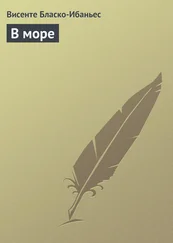Вокруг него возникла легенда о странном извращении. Ее рассказывали друг другу в своих мастерских враги маэстро, но с еще большим наслаждением судачили о проделках художника Реновалеса люди из простонародья, неизменно считающие, что известный человек не может жить, как все, и непременно должна быть капризным, странным и распущенным.
По всем заведениям, где торгуют человеческим телом, — от тайных комнат в довольно приличных домах, стоящих на вполне респектабельных улицах, до сырых и вонючих притонов, по ночам выбрасывающим свой товар на улицу Ужасов, — ходила история о некоем сеньоре, вызывающая повсеместный громкий хохот: он появлялся закутанный в плащ, таинственный, следом за убогими накрахмаленными юбками, что болтались и шуршали перед ним. Почти робко заходил в пасмурный подъезд, поднимался извилистыми лестницами, которые, казалось, воняли всеми отбросами жизни; войдя в комнатку, торопил женщину, чтобы скорее раздевалась, сам срывал с нее одежду, так как очень спешил, словно боялся, что умрет, прежде чем удовлетворит свою похоть; сначала несчастное создание почти со страхом смотрело на клиента, в чьих глазах светился хищный голод, но потом, когда он бессильно падал в кресло и впивался в нее глазами, женщина едва сдерживала смех. Гость сидел неподвижно и молча смотрел, а проститутка ругала его на все лады, ибо не понимала, чего ему от нее надо. Замерзнув и вконец разозлившись, она хваталась за свою одежду, и тогда клиент словно просыпался. «Еще минуточку, еще» — говорил он. После такой сцены он почти всегда брезгливо морщился, обидно разочарованный в своих ожиданиях. В другой раз живые манекены замечали в его глазах выражение глубокой печали, казалось, он вот-вот заплачет. Наконец чудаковатый сеньор закутывался в плащ и убегал; охваченный жгучим стыдом, он клялся мысленно никогда больше сюда не возвращаться, преодолеть в себе демона неутолимого любопытства, что поощрял его раздевать всех женщин, которые встречались ему на улице.
До Котонера тоже доходило эхо этих слухов. Мариано! Мариано! Старый художник не решался откровенно отругать друга за его ночные похождения — боялся, что маэстро взорвется бешеным гневом, ведь характер у него крутой. Обращать его на путь истины надо осторожно. Но больше всего старый друг корил Мариано за то, что тот окружал себя теперь всяким сбродом.
Чувствуя себя юным, маэстро искал общества молодежи, и Котонер вспоминал всех чертей, когда по окончании какого-то театрального представления видел товарища в том или ином кафе среди группы новых друзей, которым тот годился в отцы. Это были в основном начинающие художники: некоторые имели какой-никакой талантишко, другие за душой ничего не имели, кроме дурного языка, но все радовались, что дружат с великим художником, щеголяли, что могут быть с ним запанибрата, смеяться над его слабостями. Святый боже! Самые наглые из них даже осмеливались ровнять себя с маэстро и обращались к нему на «ты», считая художника знаменитой развалиной и пускаясь в сравнения его картин с теми, которые создали бы они сами, если бы, мол, захотели. «Искусство, Мариано, теперь развивается в новом направлении».
— Как тебе не стыдно! — возмущался Котонер. — Ты похож на школьного учителя, окруженного детьми. Это же унизительно, чтобы такой человек, как ты, спокойно терпел наглые выходки этих сосунков!
Реновалес добродушно возражал. Они очень милые, и ему с ними весело. В их обществе он чувствует себя молодым. Они ходят вместе в театры и мюзик-холлы, знакомятся с женщинами, узнают, где можно найти хороших натурщиц. С этими ребятами он может появиться где угодно, куда сам иногда зайти не решился бы. Находясь среди беззаботной молодежи, он забывал, что уже стар и некрасив.
— Они мне нужны, — говорил художник, лукаво подмигивая. — С ними весело, и они мне многое показывают... Ведь здесь не Рим и натурщиц найти нелегко, а эти ребята знают, где их искать.
И в который раз начинал разглагольствовать о своих творческих планах: о той картине, на которой он изобразит Фрину, божественно прекрасную в своей наготе — эта мысль снова не давала ему покоя; о дорогом его сердцу портрете, и дальше стоящем на мольберте, — художник так ничего и не нарисовал там, кроме головы.
Реновалес не работал. Когда-то он не мог жить, чтобы не рисовать, а теперь вся его бурная энергия выливалась в слова, переходила в страстное желание все увидеть, познакомиться с «новыми сторонами жизни».
Читать дальше