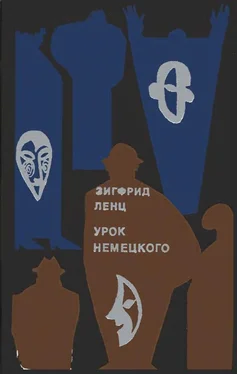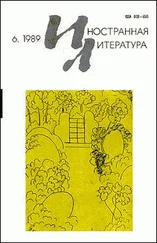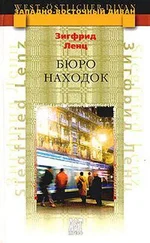Йозвиг (тихо): Открой рот или я тебя больше знать не хочу.
Я (пожимая плечами): Что вам, собственно, от меня нужно?
Гимпель: Я же говорю тебе, расскажи, как сюда попал. Мы хотим услышать это от тебя.
Я: Из-за картин, я прятал от отца картины, за которыми он гонялся. Вот и весь сказ.
Психологи навострили уши и закивали друг другу. Один из них вооружился записной книжкой и карандашом.
Гимпель (терпеливо): А почему твой отец гонялся за картинами? Как ты считаешь?
Я (глядя на Куртхена, который безучастно лежит на своей постели): Сперва по долгу службы. Из Берлина пришло запрещение художнику Нансену писать картины, и отцу приказано было передать ему это запрещение, а также следить, как оно выполняется. Он служил в сельской полиции — Ругбюльский участок. А потом он уже не мог перестать. Остальное вам известно.
Один из психологов (желая удостовериться): Макс Людвиг Нансен?
Другой психолог: Экспрессионист?
Гимпель: Итак, Зигги, твой отец, будучи полицейским, должен был следить за выполнением приказа, а, когда приказ потерял силу, он по-прежнему продолжал преследовать художника.
Я: У него это стало пунктиком, как бывает с теми, кто знать ничего не хочет, кроме долга. А потом это сделалось болезнью, если не чем похуже.
Один из психологов: Похуже, говоришь?
Гимпель: Твоему отцу случалось конфисковать картины?.
Я: Конфисковать, сжигать, истреблять, все, что угодно.
Гимпель: А теперь о себе. Ты, стало быть, прятал от отца картины, укрывая их в надежном месте. Расскажи нам об этом подробнее.
Я: Началось с пожара на мельнице. У меня был на мельнице тайник, и все погибло от огня. Все мои коллекции. Картины, ключи, замки. С этого и пошло. Я и сам хорошо не понимаю: я смотрел на картину и вдруг замечал: что-то на ней шевелится и на заднем плане вспыхнул огонек — просто так, сам по себе, — и тут уж я не мог оставаться равнодушным.
Первый психолог: Целеустремленная навязчивость.
Второй психолог: Грезоподобная защитная реакция.
Я: Так оно и получалось: я видел, что картина под угрозой, и убирал ее в надежное место. Вы бы тоже так поступили. После пожара на мельнице я завел новый тайник, у нас на чердаке, туда и относил картины. Но он его нашел. Выслеживал, выслеживал меня, пока однажды не нашел картины. Тут уж он разделался со мной по-свойски.
Куртхен (с кровати): Лопух! Тебе бы их сожрать!
Гимпель (успокаивающе): Но ведь твой отец выполнял свой долг.
Я: Он решил засадить меня в тюрьму. Он мне это сам сказал. Вот и добился. А если хотите знать, как я здесь оказался…
Директор Гимпель (с жаром): Вот-вот! Это-то нам от тебя и нужно.
Я (не спеша подхожу к Куртхену и присаживаюсь на постель): На это я могу дать вам точный и, можно сказать, исчерпывающий ответ. Я замещаю здесь своего родителя, ругбюльского полицейского, и я чувствую, что вот и Куртхен тоже здесь кого-то замещает — некую тетушку Луизу или дядюшку Вильгельма. Похоже, что и другие ребята здесь тоже за кого-то отдуваются. «Трудновоспитуемые подростки»: такой ярлык они нам прилепили на суде, и здесь каждый день про это поминают. Возможно, кое-кто из нас и не поддается воспитанию, мне трудно судить. Но есть и у меня к вам вопрос: почему такого же острова, со всеми его мастерскими, не заведут для трудновоспитуемых старших? Разве они не нуждаются в воспитании?
Куртхен (свирепо): Никакого острова б не хватило.
Я: И когда, собственно, кончается воспитание? В восемнадцать лет? В двадцать пять?
Гимпель (поддакивая, с жаром): Вопрос более чем уместный. Тут не придерешься!
Я: Здесь нам морочат голову, но, может, они и сами себя морочат. Не стану спрашивать, сколько людей с нечистой совестью разгуливают тут на свободе.
Один из психологов: Скорее всего — отклоненная агрессия, преследуемый преследователь, а?
Я: Но поскольку никто сам себя не судит, то и отыгрываются на других, отыгрываются на молодежи. Все же какое-то облегчение. Чего проще: нечистую совесть сажают на баркас и отвозят сюда, на этот остров, и тогда уже ничто не мешает им с удовольствием съедать свой завтрак или вечерком прихлебывать грог.
Гимпель (осуждающе): Тут уж, Зигги, ты становишься тривиален.
Я: Так и быть, я скажу вам, как попал на этот остров. Ни у кого из вас рука не поднимется прописать ругбюльскому полицейскому необходимый курс лечения, ему дозволено быть маньяком и маниакально выполнять свой треклятый долг. А я нахожусь здесь, в исправительной колонии, оттого что он достиг солидного возраста, считается незаменимым и исправлению не подлежит. Да, если хотите знать, я здесь вместо него. А вдруг это выход: я вернусь домой и преподам ему то, чему научился здесь? Что ж, будем надеяться. Надо же на что-то надеяться. Поверить этому ведь я не могу.
Читать дальше