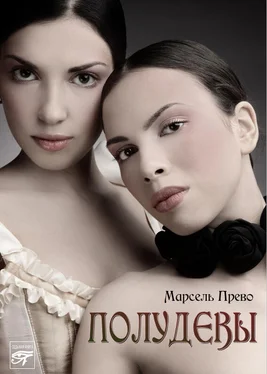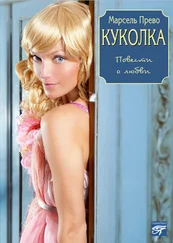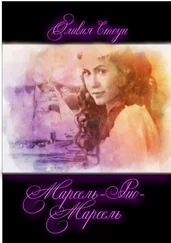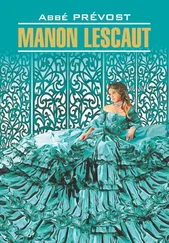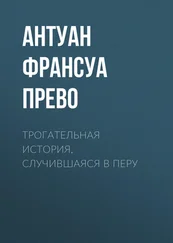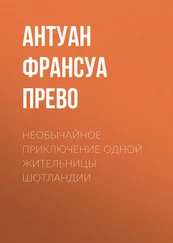– О! простите меня… – проговорил он, стоя на коленях, касаясь лбом ее платья.
Она оправилась.
– Встаньте, – сказала она почти сурово. – Я не люблю, когда мужчина становится на колени. Хорошо, я забыла. Если это могло излечить вас – тем лучше… Потому что я могу беспокоиться за будущее при таком сердце, как ваше.
Он просил позволения поцеловать ее в лоб, единственное место, к которому она разрешила ему прикоснуться со времени их помолвки. Мод протянула ему шею, к которой он приник долгим, горячим поцелуем; она позволила слишком много, побуждаемая желанием отомстить Жюльену. Максим никогда не видел от нее такой ласки и никогда поцелуй его не причинял ей такой тяжелой нервной боли.
Со смертью Матильды Дюруа и отъездом Мод из Шамбле прекратились свидания между ней и Сюберсо, и Жюльен с тех пор не выходил из клуба; он отказывался от всяких приглашений, не бывал в театре и вообще в тех местах, где знакомые могли бы напомнить ему о Мод или Максиме. Он много играл. Игра в то время была серьезная, благодаря двум богатым иностранцам-братьям, которые каждый вечер рисковали проиграть имение в Польше. Партия начиналась в пять часов, прерывалась на время обеда и продолжалась до возгласа метрдотеля: «обед подали», затем она возобновлялась около полуночи. Сюберсо приходил первым и уходил последним: он играл без остановки, с удивительным счастьем «осужденного», от которого становилось страшно самому игроку, когда он вечером возвращается домой, – отупевший и разбитый усталостью, вынимает из карманов пачки банковых билетов и равнодушно смотрит на них. За шесть дней он выиграл около трехсот тысяч франков. Эта единственная в своем роде лихорадка, которая охватывает самого твердого желанием проникнуть в тайну комбинации карт, расположившегося к богатству или разорению игрока, одна только и спасала Жюльена от полного отчаяния с тех пор, как Мод, в выражениях, непонятных ни для кого другого, кроме него, и которые он разбирал, как шифрованные знаки секретной корреспонденции, написала ему о необходимости прервать их свидания до ее замужества.
Таким образом, проходила ночь, а за нею и день, наступавший после того, как он, возвратившись домой в шесть часов утра, ложился спать. Но самое ужасное время было, когда в девять часов вечера, по окончании обеда, товарищи по клубу расходились по театрам, или, пользуясь прекрасным летним вечером, отправлялись в Булонский парк. Ему иногда не хотелось ни в театр, ни в кафе-шантаны, ни в Булонский парк, никуда, где что-нибудь могло напомнить ему светскую жизнь и где он мог бы встретить людей, которые заговорили бы с ним о Мод и о Шантеле. И он топил свою тоску в глубоком молчании опять в тех же пропитанных дымом клубных залах. Он думал: «Что она делает теперь? С нею ли он? Что они оба делают?..» И одиночество страшно тяготило его.
Увидав однажды вечером Гектора Тессье, шедшего через пустой зал в кабинет для корреспонденции, он не мог удержаться и пошел навстречу ему. Гектор любезно пожал ему руку: он питал тайную симпатию к этому великолепному животному – человеку, каким он, в качестве дилетанта, считал Жюльена, и охотно допускал мысль, что натура, подобная Мод, могла властвовать над этим стадом современных негодяев.
– Вы хотите писать? – спросил Жюльен.
– Да… телеграмму. Через пять минут я ваш. Подождете меня?
Составляя депешу, он продолжал разговор, прерываемый короткими паузами.
– Что вы делаете в этой пустыне в такой час, когда подобные вам жуиры веселятся?
– Ожидаю партии.
– Вы лучше бы сделали, если бы поехали в Булонский парк. Воздух чудесный.
– Булонский парк мне надоел.
– Так поезжайте слушать Иветт.
– Иветт тоже надоела.
Гектор, заклеив телеграмму, сделал пол оборота и проговорил с улыбкой:
– Вот как! А… женщины?
– О! Их я ненавижу! Если бы я был уверен, что не встречу ни одной, может быть, и пошел бы.
– Ба! – воскликнул Гектор, какой пессимизм!
И он, бросив телеграмму в ящик, уселся верхом на стул и закурил сигару.
– По мне что ни говорите, – сказал он, – женщины одно из бесспорных развлечений в этой долине слез.
– A мне, – возразил глухим голосом Жюльен, облокотившись и понурив голову, – они противны до тошноты.
Его лицо действительно выражало отвращение, – И под этими высокими сводами среди безмолвия пустых комнат, с полуоткрытыми окнами, в которые также в это послеобеденное время доносилось мало шума с парижских улиц, он продолжал говорить, громко высказывать свои тайные мысли, – довольный, что есть, кому слушать его жалобы и даже, пожалуй, сочувствовать ему:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу