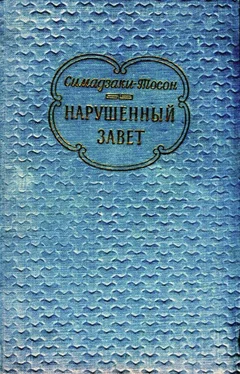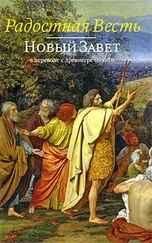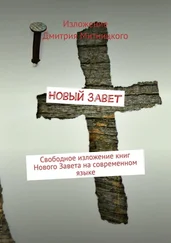У неё был совершенно расстроенный вид.
Я больше всего опасалась, что так оно и будет! — сказала она и, присев против Усимацу, рассказала ему о событиях вчерашнего вечера. Оказалось, что Осио, сказав, что она идёт на почту, ушла из храма и не вернулась. Оставленное на комоде письмо было адресовано окусаме. Оно было написано искренне и чистосердечно. Кое-где даже буквы расплылись от слёз. Осио писала, что во всех неприятностях повинна она одна, что она не знает, как вымолить прощение у своих приёмных родителей. Она слышала, что окусама решила развестись… пожалуйста, пусть она оставит эту мысль. Осио никогда в жизни не забудет милостей, которые ей оказывали с тринадцати лет до этого дня. Как ей хотелось бы всегда быть при окусаме на положении дочери и звать её матерью. Но такова уж её судьба… простите… «Матушке от Осио», — так заканчивалось письмо.
— Да… — сказала окусама, утирая рукавом глаза. — Молода она, как бы чего не сотворила… вчера я всю ночь не могла заснуть. Сегодня рано утром послала узнать, не вернулась ли она к отцу. — Окусама помолчала, а потом добавила: — Сестра из Нагано приехала. А тут вот что случилось! Сказать не могу, как она поражена! — Окусама зарыдала от жалости к несчастной девушке.
Бедняжка, каково ей было покинуть дом, с которым она сроднилась, оставить своих приёмных родителей и по снегу, в холод, бежать неведомо куда! Слушая окусаму, Усимацу представлял себе горе и страдания Осио, решившейся на побег из храма.
— Да… теперь настоятель, наверно, опомнился, — пробормотала окусама и, повторяя про себя: «Наму амида Буцу», вышла.
Некоторое время Усимацу неподвижно стоял, прислонившись к стене. Жалость и сострадание рисовали ему живую картину происшедшего. Вот перед ним Осио: вот она торопливо выходит за ворота храма, поминутно оглядываясь назад. Вот её опустившийся отец, который только и способен спать, пить да удить рыбу, куча плачущих и ссорящихся детей, мачеха… Если Осио вернётся к ним в дом, что с ней станет? И вдруг снова, как накануне, у него мелькает в голове: «А что, если Осио этого не переживёт?» — И сердце у него сжимается от ужаса.
Внезапно Усимацу отошёл от стены. Надев шляпу, он спустился с лестницы, прошёл коридор и с озабоченным видом вышел за ворота Рэнгэдзи.
«Куда же я, собственно, собрался идти?» — спросил себя Усимацу, когда заметил, что прошёл уже несколько кварталов. Весь во власти отчаяния и страха, он точно в полусне бесцельно брёл по занесённой снегом улице. И тут и там небольшие группы людей сгребали в кучу снег, который так и не растаял до самой весны. На крышах снег лежал толстым слоем, и, когда его сбрасывали, он падал на дорогу со страшным шумом. Сколько раз при этом Усимацу невольно вздрагивал от страха. А если ему случалось увидеть несколько человек, что-то обсуждавших между собой, он сразу же решал, что речь идёт о нём.
На углу одной из улиц ему бросилось в глаза объявление на стене. На широком листе европейской бумаги было что-то написано крупными иероглифами тушью и отмечено двойными красными кружками. Несколько человек с любопытством читали объявление. Усимацу тоже невольно остановился. В объявлении сообщалось о предстоявшем в тот день митинге, на котором выступит адвокат Итимура, а также Рэнтаро — и тема его речи. Место митинга — храм Хофукудзи в Ками-мати, начало — в шесть часов вечера, то есть после обычного времени ужина.
Прочитав объявление, Усимацу продолжил свой путь. Говорят, боязливым людям чудятся в темноте черти. Но у Усимацу теперь чувство боязни не исчезало и днём. Страшные лица, глумливые голоса, злоба окружали его со всех сторон; хищные вороны с противным, презрительным карканьем кружили у него над головой. «Ждут не дождутся, чтоб он упал на снег»! — с тоской думал Усимацу, весь во власти безнадёжности, и всё торопливее шагал вперёд по улице Сакана-мати.
Незаметно он вышел к реке. Это место называлось «Нижняя переправа»; отсюда была видна вся река. Хотя место называлось переправой, в действительности это был понтонный мост. По дороге, цепочкой темневшей на снегу, тянулись вереницы путников. Проезжали тяжело гружёные сани. Простирающаяся вдаль долина казалась белым морем, и прибрежный тростник и ивы — всё было погребено под снегом. Не только Кося, Кадзахара, Наканодзава и другие горы, но даже деревушки и рощи на противоположном берегу были окутаны снегом, и оттуда лишь глухо доносилась перекличка петухов. Среди снежной долины грустно текла Тикума.
Читать дальше