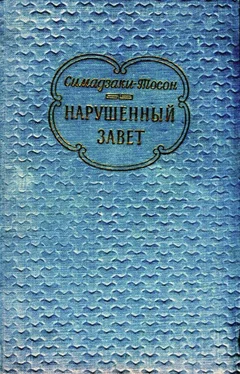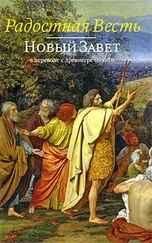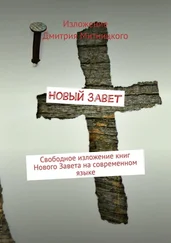И тут вошла Осио.
«Ведь я в школе? Как же могла оказаться здесь Осио? — удивился Усимацу. Но его сомнения тотчас же рассеялись: — Значит, Осио хочет о чём-то поговорить со мной», — догадался он. Эти нежные глаза… Он взглянул в глаза девушки, и они сказали ему всё, что у неё было на сердце. Отчего он добр только к её отцу и брату, а к ней самой так безучастен? Отчего, хотя они живут под одной кровлей, он не сказал ей ни одного ласкового слова? Отчего он не говорит то, что вертится у него на кончике языка, отчего замкнулся в своём горе и не понятном ей страхе?
Эти сладостные минуты вдруг прервал приход Бумпэя. Он стал озабоченно звать Осио, потом схватил за руку смущённую девушку и силой увлёк её за собой.
— Кацуно-кун, подожди! Разве можно так! — пытался удержать его Усимацу. Бумпэй оглянулся. Их взоры скрестились, словно молнии.
— О, Осио-сан, я вам расскажу кое-что интересное, — и Бумпэй, склонившись над её ухом, всем своим видом доказывал, что шепчет ей страшную тайну Усимацу.
— Стой, зачем ты ей это говоришь?
Усимацу бросился к ним… и проснулся… Так это был сон. Он очнулся, и у него отлегло от сердца. Но впечатление от сна ещё оставалось, и страх всё ещё не проходил. Он обвёл взглядом комнату — здесь не было ни Осио, ни Бумпэя. В этот момент дверь отворилась, и со свёртком под мышкой вошёл Гинноскэ.
— Уже поздно! Сэгава-кун, ты ещё не спишь? Давай укладываться и, лёжа, поболтаем с тобою. — Гинноскэ скинул и повесил на крючок пиджак, снял и положил на стол воротничок, отстегнул подтяжки.
— Ну вот, скоро нам и расставаться, — сказал он. Комната в восемь циновок, где столько раз, лёжа рядом, друзья проводили в разговорах всю ночь своего дежурства… Она навела Гинноскэ на грустные мысли о предстоящей разлуке. Оставшись в нижнем белье и не переодеваясь в ночное кимоно, он забрался в постель под одеяло.
— Значит, последнюю ночь я провожу в этой комнате с тобой! — сказал он со вздохом. — Это последнее моё дежурство…
— Да… Ты уезжаешь, — отозвался Усимацу. Он тоже уже лежал в постели.
— У меня такое чувство, точно мы с тобой опять в семинарском общежитии. Отчего-то всё вспоминается прошлое — то время, когда мы с тобой вместе учились. Интересно, как сложилась судьба наших прежних товарищей? — Гинноскэ немного помолчал, а потом заговорил: — Вот что, Сэгава-кун, я давно уже хочу тебе кое-что сказать.
— Мне?
— Послушай, нельзя так замыкаться в себе, как ты это делаешь, нехорошо. Глядя на тебя, только и остаётся думать, что у тебя какое-то большое горе и ты один его в себе носишь, один им мучаешься. Это ясно без слов. Но я за тебя тревожусь. Если у тебя есть горе, почему ты не поделишься им со мной? Разве я, твой друг, не помог бы тебе? Что с тобой происходит? — участливым тоном продолжал Гинноскэ. — Ты, вероятно, думаешь, что раз я начинающий учёный, раз я постоянно с головой ухожу в свои занятия, то не способен тебя понять? Но я вовсе не такой чёрствый. Я не бессердечный человек, способный с усмешкой поглядывать со стороны, как другой страдает.
— Странные вещи ты говоришь! Никто и не думает называть тебя бессердечным, — сказал Усимацу, повернувшись ничком.
— В таком случае расскажи мне.
— Что рассказать?
— Я не думаю, чтобы тебе нужно было таиться от меня. Оттого, что ты всё держишь в себе, твои страдания только усугубляются. Видишь ли, я одно время только и знал, что занятия, вот и смотрел на вещи слишком аналитически. Но теперь я смотрю глубже. Я прекрасно понимаю твоё душевное состояние. Понимаю, почему ты перебрался в Рэнгэдзи, почему ты уединяешься в своём горе, мне теперь всё ясно.
Усимацу ничего не ответил. Гинноскэ продолжал:
— По мнению нашего директора, всё это не стоит ни полушки. Обо всём он твердит одно: «Это болезнь современной молодёжи». Но, подумай, ведь был же и он когда-то молод! Сами провели свою молодость, посвистывая, а на нас напускают всякие строгости… Верно? Я им так и сказал. Сегодня директор и уездный инспектор позвали меня и спрашивают: «Отчего Сэгава-кун такой задумчивый?» Я им и сказал: «Это вы сами должны понимать. В молодости с каждым такое бывает».
— Вот как? Тебя об этом спрашивал инспектор?
— Видишь ли, твоя постоянная задумчивость вызвала всякие толки. Говорят невесть что… и твоё поведение ложно истолковывается.
— Ложно истолковывается?
— Дошло до того, что пустили слух, будто ты «синхэймин»… Есть ведь любители нести всякую чепуху.
Усимацу засмеялся.
— Допустим, что я «синхэймин», ну и что с того?
Читать дальше