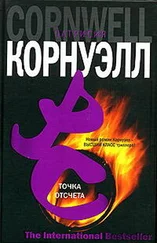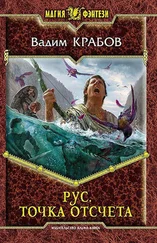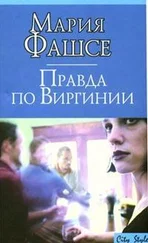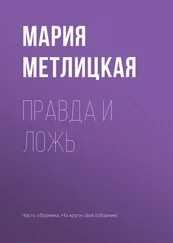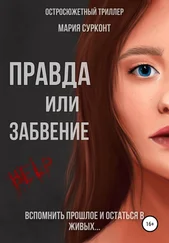— За нее, за нее, господа! — слышалось со всех сторон. Николай Александрович молча чокнулся с Кондратием и с братом стаканом кваса. Ему было досадно.
26 НОЯБРЯ 1825 ГОДА, ЧЕТВЕРГ, МОЙКА 72, С. — ПЕТЕРБУРГ
С утра приехали Наташа с Настинькой из деревни, из Батова. Рылееву не давали работать, носили вещи, корзины с провизией. Наташа суетилась, нервничала. Вечером известные люди будут, светские, кормить их нечем, повар едет обозом, будет поздно, а Кондратию это все равно. Придумал людей угощать квасом, водкой да капустой квашеной с огурцами. Это ни на что не похоже.
— Так не есть же они ко мне приходят! — сердился Кондратий. — Есть они и в Демутовом трактире могут. А у нас дела, разговоры важные. Не все равно ли, что есть!
— Как же это может быть все равно, Коня! — убивалась Наташа. — Потом будут говорить, что мы бедные!
Рылеевы всегда были бедные. Причем они были одинаково бедны, когда денег не было и когда они были. Сейчас у них была квартира Российско — Американской компании на восемь комнат, да двор большой, да две лошади на собственный выезд, да корова своя во дворе. Наташа настаивала на хозяйстве, так дешевле. А Кондратия негородской этот уклад раздражал неимоверно. Несмотря на стремление к экономии, жалованье компанейское вкупе с жалкими деревенскими доходами проедалось от получки до получки.
Рылеев, как и полагается истинному поэту, женился по романтической любви на черноглазой красавице–бесприданнице, и только потом понял, как это скучно, когда все, как у всех. Завтрак, обед, дети, служба, ссоры, деньги, деньги, деньги, ты меня больше не любишь! В юности, еще в корпусе, Кондратий представлял себе семейную жизнь как картину идеального счастия. Прелестная жена, румяные младенцы, уютное семейное гнездышко, а он в кабинете среди любимых книг работает над бессмертными стихами. А что вышло? Жена? Нельзя требовать большего от Наташи. С ней можно не опасаться за честь свою, а чего ж еще требовать от современной женщины при нынешней распущенности нравов? Младенцы? Вечный страх, забота, шум, возня, а в итоге, когда потеряли они в прошлом году младшего, грудного Сашеньку, больно невыносимо. Гнездышко? Василеостровская квартира с крикливой хозяйкой была во сто раз уютней, чем просторный этот сарай на набережной Мойки. Восемь комнат, да вдоль реки, да сквозняки такие, что свечи гаснут ежесекундно, невозможно работать. А в кабинете, что окнами во двор, там корова мычит с утра. Весело! До стихов ли тут! А дела Общества, коих с каждым днем становилось все больше, вообще не оставляли ни секунды свободного времени. За последний месяц — ни строчки! Рылеев уже решил, что до лета кое–как доживем, а потом на два месяца к Наташиным родителям, в Малороссию, в Острогожск, засесть там безвылазно и писать новую поэму из народной жизни. Только так, не думая более о том, как подлец Пушкин к ней отнесется.
После того как всеми признанный поэт походя разнес в клочья его любимые «Думы», Кондратий какое–то время вообще не мог писать. Только начнет клеиться что–то путное, сразу мысль: а про это Пушкин скажет, что фальшиво и натянуто, а про это скажет, что сие не есть истинная народность, и рифма дурна, и пошло–поехало. Eсли верить Пушкину, то у него, Рылеева, в стихах почти и нет истинной поэзии. Одну только строчку когда–то похвалил. «Это я у тебя, милый Рылеев, украду». А строчка–то, в сущности, никакая! Там про палача говорится: «Вот засучил он рукава». Ну и что? Странный он все–таки, Пушкин.
— Ты как хочешь, но если гостям снова будут подавать капусту, я к ним и не выйду, и не покажусь даже!
И ведь так хотелось сказать: Наташенька, душа моя, езжай–ка ты обратно в Батово, как здесь без тебя было хорошо и покойно! И гостям моим показываться тебе совершенно не нужно, не твоего это ума дело. Вместо этого Кондратий собрал все свое благоразумие и произнес:
«Натали, ангел, пошлем человека к Пущиным, одолжат они нам по–соседски на вечер своего повара — все будет какой–никакой обед. А ты ложись отдыхать с дороги».
Холодный круглый локон прижался к его щеке. Мир был заключен.
Посольство к соседям принесло неожиданную радость — вместе с поваром, пешком (он жил на Мойке же, у Конюшенного мосту), пришел и сердечный друг, Иван Пущин, который только что приехал к отцу из Москвы. Рылеев любил Пущина несказанно и даже объявил меж своими знакомцами, что тот, кто любит Пущина, должен и сам быть хорошим человеком.
Пущин был высок ростом, широкоплеч, румян, светловолос — от его облика так и веяло молодостью и силой. Иван Иванович в Обществе был давно, проникнувшись передовыми настроениями с самой скамьи лицейской, но в отличие от прочих членов верил в силу мирных преобразований. Сам он, оставив артиллерию, перешел в статскую службу и захотел даже быть квартальным надзирателем, чтобы начать с самых низов наводить порядок в стране, но квартальный — это было бы крайне не comme il faut — сестры валялись у него в ногах, дабы не допустить подобного бесчестия. Сын сенатора и внук адмирала Пущина никак не мог командовать ночными сторожами! Поэтому Иван Иванович пошел служить судьей по Московскому округу, где было у него имение, и, по рассказам, был справедлив, как царь Соломон. «Ежели бы все мы стремились приносить добро на избранном нами месте, — рассуждал Пущин, — мир бы переменился». Впрочем, поработав судьей с полгода, он понял, что был неправ. Бездна российского беззакония оказалась столь необъятной, что, будь в судах хоть сто Пущиных, мир остался бы тем же самым. Он дал себе слово продержаться еще год, но тут в московской отрасли пронесся слух о болезни государя. Иван Иванович взял отпуск, добыл служебную подорожную и прилетел в Петербург вихрем, за двое суток.
Читать дальше