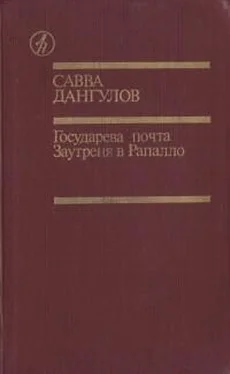Ленин пошел по комнате, вода в стакане дрогнула, шаг был исполнен энергии.
— Может быть, и так, может быть… Однако, что делать нам?
— При первой же встрече с Буллитом надо повторить: мы ждем ответа Антанты до десятого апреля, — произнес Чичерин. — Одиннадцатого мы уже его не примем… Наш девиз: терпимо, но твердо…
— Как вы, Лев Михайлович?
— Именно твердо, Владимир Ильич. Ленин вернулся за стол.
— Согласен, надо повторить: крайний срок — десятое апреля… — Ленин еще не все сказал. — А этот Стеффенс по–своему занятен?.. — взглянул он на Чичерина, потом на Карахана, как бы вызывая их сказать и свое слово.
— В чем–то задира, в чем–то забияка, но значителен и честен, — отозвался Чичерин.
— И, как мне кажется, старается понять Россию, — подал голос Карахан.
— Не без колебаний, но старается понять, — согласился Владимир Ильич. — Не считаете ли вы, что тут. у нашей дипломатии есть резерв: отыскать если не друга, то… симпатизанта, — он не без сомнений обратился к этому слову, оно было необычно, но точно по смыслу. — Без друзей новая дипломатия не сделает ничего серьезного… — он тронул кончиками пальцев висок, видно, голова еще болела. — Великий дар отыскать друга, еще больший — его сберечь…
Чичерин покинул Кремль с Караханом.
Георгий Васильевич нахлобучил шапку, поднял воротник шубы, выпростав шарф и тщательно обмотав им шею, — мартовская теплынь обманчива.
Карахан, прежде времени облачившийся в демисезонное пальто, поглядывая на Чичерина, ссутулил плечи — от одного вида Георгия Васильевича познабливало.
— Который час, Лев Михайлович? Карахан обнажил запястье.
— Ничего не вижу!.. — вымолвил он, поднося к глазам и отстраняя руку. Он взглянул в сторону того берега — Замоскворечье, видимое с кремлевского холма, укрыла темь. — Впрочем, наверняка больше часа — в час станция отключает свет в Замоскворечье…
— Если даже миссия Буллита — всего лишь шар пробный, есть смысл оказать ей полную меру внимания, Лев Михайлович… — произнес Чичерин.
— Все, что в наших силах, Георгий Васильевич…
— Ваша петроградская поездка состоится вовремя?
— Да, я говорю и о Петрограде…
Карахан ехал в Петроград по делам новой дипломатии. Все масштабнее становились наши отношения с Востоком, историческим центром русского востоковедения была северная столица, кадры специалистов по Востоку — китаистов, индологов, арабистов — Наркоминдел рекрутировал из Петрограда.
— Крайнов будет с вами?
— Да, до Петрограда, дальше один…
— Ну, что ж, доброго пути…
Сказав «дальше один», Карахан имел в виду Швецию–путь Крайнова лежал в Стокгольм…
— А каков Владимир Ильич, а? — оживился Чичерин. — И это его слово о симпатизанте?.. И этот совет: великий дар отыскать друга, еще больший — его сберечь… — он удержал в памяти мысль Ленина. — Мне эта формула Ленина видится своеобразным ключом к будущему… — Он вздохнул, произнес почти счастливо: — Ключом, ключом… Одно слово, государева почта! — вернулся он мыслью к миссии Буллита. — По всем статьям государева стать, а на самом деле? Миссию отряжал Ллойд Джордж, а он все–таки глава кабинета его величества. Государева, государева! — повторил он, не утаив иронии.
Башня Кутафья осталась позади, они простились. Тропа Чичерина взяла направо, к Китайгородской стене, снежная стежка Карахана — в Замоскворечье. Тропы были неширокими, схваченными ледяной коркой, отдающими заметной лиловостью, медленно теряющимися в непрочной тьме мартовского полуночья.
В эту ночь, освещершую едва заметным свечением неба, как с вышки, вдруг открылась панорама времени, надо было только напрячь зрение, чтобы стала доступна эта череда лет, быть может, даже далекая череда лет…
Годы преломились для Чичерина в людях, мятен–ный Запад воспринимался им через характеры… Где он, Эдуар Эррио?..
Говорят, Эррио любил утреннюю прогулку по Лиону. Ну, это была не совсем прогулка, для мэра она была утренней поверкой города, смотром сил. Солнце посылали Лиону Альпы, солнце приходило оттуда. Когда оно показывало свой рыжий усище, Эррио был уже далеко — на стыке Роны и Соны, в центре шелкового края… Ранний час дарил ему первых собеседников: вначале дворников, потом ткачей, чудо–мастеров, творящих диво Лиона — велюр, парчу и, конечно, лионез… С зарей вставали и мануфактуристы — сонм хозяев, торгующих лионскими шелками, — их пробуждение сопровождалось канонадой… Нет, это была, разумеется, не артиллерийская стрельба, но нечто похожее на нее: гремя и погрохатывая, взлетало створчатое железо, которым хозяин защитил свои маркизеты и крепдешины от буйствующей ночи. В том, как хозяин взвивал створчатое железо над своей головой, виделись и сила, и азарт. Было даже страшновато, как можно микроскопическим ключиком, извлеченным из кожаного гнездышка, величиной в спичечный коробок, вызвать такую пальбу… Но шум возник и стих, хозяин извлекал из недр своего шелкового царства алюминиевый чайник, наполнял его водой и, довольный собой и славным лионским утром (вслед за рыжим усищем появлялась и огненная борода солнца), выходил на тротуар и принимался неспешной струйкой воды линовать свой кусок асфальта, линовать усердно, пока он не становился черным… Потом хозяин извлекал из все тех же дебрей шелкового царства венский стул и садился у входа в лавку — вот он и готов для беседы, будь его собеседником хоть сам мэр Лиона!.. А Эррио уже идет, он идет, и вопреки раннему утру за ним потянулась толпа горожан. Что такое мэр, как не гонец, пытающийся обогнать самую легконогую из ланей — новость? Сколько помнит шелковая столица Франции своего мэра, новость никогда не обгоняла Эррио, Эррио обгонял новость, что давало мэру единственную в своем роде привилегию: он знал, что творится в городе. Надо не ведать ни сна, ни покоя, чтобы вечно мятежный Лион, Лион свободолюбивый избирал тебя почти в течение полувека, да притом бессменно, своим мэром!.. И дело Лионом не кончилось — молва о беспокойном и жизнелюбивом мэре перемахнула через стены Лиона. Ну, тут нужна оговорка, пожалуй, даже серьезная оговорка: не всегда молва возносит своего избранника так высоко, что он становится французским премьером, но Эррио стал премьером, к тому же дважды…
Читать дальше