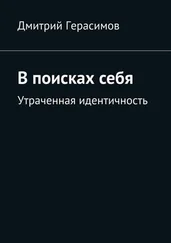Иногда, правда, случались анекдоты. После третьего курса Лёня состоял в Совете молодых ученых. И там же, в Совете, числилась Таня Нордман – он уже давно не помнит точно, но вроде бы Таня – очень приятная девушка. По фамилии Лёня был уверен, что еврейка, и даже подумывал, не стоит ли завязать с ней тесную дружбу.
– Ты знаешь, кто ее отец? – спросил как-то Дима Дворников, председатель Совета.
– Нет. А кто?
– Председатель краевого КГБ.
«Еврей и председатель КГБ?» – в этом было что-то невероятное, невозможное, что начисто опровергало все его представления.
– Неужели еврей?
– Ты что? – Дима покрутил пальцем у виска. – Совсем рехнулся? Латыш. Во время войны возглавлял штаб партизанского движения в Белоруссии.
– Но вроде латыши с Советской властью тоже не очень? Не лучше евреев.
– А красные латышские стрелки? 143. Как видишь, латышу можно. А было время, в ЧК, куда ни плюнь, везде евреи, – Лёня не понял, что этим хотел сказать Дима: просто сообщал факт или тайно злорадствовал.
Вообще-то, Лёня много чего знал. Например, про сталинские депортации некоторых кавказских народов. Не только кавказских, но и крымских татар, и калмыков, что жили на границе Ставрополья. При Хрущеве депортированные народы возвратились назад. Как-то с родителями вместе в поезде Лёня встретил эшелон возвращенцев. Они, словно специально для всеобщего обозрения, располагались на огромных открытых платформах: мужчины в папахах, женщины в платках, скот в загонах, кудахчущие куры, чумазые громкоголосые дети, писающий мальчик на самом краю платформы – все напоминало гигантский библейский ковчег и одновременно исход из Египта.
Доходили слухи, будто в Грозном происходили массовые демонстрации и митинги русских, протестовавших против возвращения чеченцев, будто бы там громили горком и обком и что русские женщины ходили по вагонам проезжавшего поезда «Баку-Москва»: просили пассажиров рассказывать в России, что в Грозном вернувшиеся чеченцы режут русских 144, и что началось массовое бегство русских из Грозного. Русские люди словно предчувствовали свою судьбу и судьбы своих детей.
А еще – это Лёня хорошо запомнил – в пятьдесят шестом, вскоре после Двадцатого съезда, он тогда был в третьем классе, разразилось восстание в Тбилиси 145. Сосед шепотом рассказывал, что демонстранты несли портреты Сталина, Молотова и Ворошилова, а портреты Хрущева разбивали и жгли. И что вроде бы хотели отправить телеграмму Молотову, но из Центрального телеграфа стали стрелять. Будто бы из пулемета. И что много людей убито. И еще: почему-то стреляли по поезду, вроде бы в русских и что поезд с ранеными мчался без остановок до самой станции Кавказской…
Да, если напрячься и припомнить, Лёня много чего слышал и знал, и про Новочеркасск 146тоже, разве что о депортации немцев и корейцев просветился значительно позже, но – слеп был, и все вокруг были слепые, не догадывались, что империя смертельно больна. Да и не подозревали, что – империя.
Наверное, поэтому он был уверен, что притесняют одних евреев. Остальные равны. Между остальными дружба. С другими народами отдельные эксцессы, межнациональные распри, злоупотребления, пережитки, перегибы, мелочи, а антисемитизм – государственная политика. Лёня помнил, как папа переживал, когда в горком не взяли Вайнштейна – из-за антисемитизма…
Да, он был уверен, что притесняют только евреев. И вдруг…
В то время он учился курсе на четвертом. Поступить в провинциальный мединститут ему, отличнику, к тому же сыну заведующего кафедрой, не составило никакого труда. Он, правда, не в мединститут хотел, а в МГИМО или в МГУ на философский, но папа напугал Лёню, что в МГИМО будут сплошные проверки, не дай бог откроется его еврейство, и что в МГИМО евреев не берут с самого первого дня по тайной инструкции Сталина от тридцать девятого года, когда вспыхнула недолгая, но бурная любовь с Гитлером. «МГИМО открыли во время войны, страна готовилась стать мировой державой, – рассказывал папа, – но инструкция продолжала существовать и действует до сих пор, будто не с Гитлером воевали, а наоборот, были с ним в тесном союзе. Много лет ее никто не видел, эту инструкцию, но продолжают неукоснительно соблюдать. А что касается философии, то ее нет давно, одно начетничество и ложь. Я страдал всю жизнь, старался извлечь хоть что-то живое из этой теории, и всякий раз за это живое меня били. Мне в свое время никто не подсказал вовремя, но тебя я обязан предупредить. И я тебе запрещаю! Слышишь? Запрещаю!»
Читать дальше