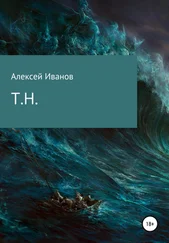Ночью, когда немая желтая луна расчертила на паркете полосы света, он услышал, как она пошевелилась, потерлась о его плечо и сказала, не поднимая лица:
– Я старше тебя на двенадцать лет… – мягкие губы шевелились на плече и нежно щекотали его. – На двенадцать лет и целую жизнь…
– А я – на целую войну, – Сеславинский растворялся в нежном женском тепле, исходившем от каждого прикосновения ее тела.
– Не хочу об этом, боюсь, начну плакать, – она умолкла, Сеславинский чувствовал на плече ее ресницы.
Она тихонько рассмеялась:
– Когда тебе было лет семь-восемь, я уже целовалась с твоим папенькой! – Сеславинский чувствовал на груди, на животе ее крепкую, горячую ладошку. – У меня была шальная мысль – его соблазнить. Он ведь был однолюб… И все время держал твою маменьку за руку… – она приподнялась на локте, приблизив к нему лицо. – Зато я соблазнила тебя… но я тебе не помешаю, не бойся! – быстро-быстро зашептала она. – Я не буду тебе мешать, я буду рядом, пока ты позволишь… Мне страшно, Сашенька, страшно по-настоящему… Я же еще не стара, я могу любить, меня могут любить, а я чувствую себя, как раздавленная лягушка на дороге… Я хочу жить, просто жить, ведь я же ни в чем не виновата… Я даже не спала с этим… с Микуличем… Сашенька, он страшный человек… я его боюсь…
Утром Сеславинский по просьбе Марьи Кузьминичны обследовал квартиру, обнаружив несколько ловко замаскированных дырок и оконцев – прослушек. Возле одного, из комнаты рядом со спальней, стоял стул, и в углу была прислонена фотографическая тренога, явно лишняя в этом доме. Марью Кузьминичну это не особенно смутило, она была по-утреннему свежа, легка и порхала по комнатам, напевая что-то.
– Маша («Маша» после «Марьи Кузьминичны» было непривычно и чуть неловко), ты бы оставила себе колбасы, масла, – Сеславинский смотрел, как она изящно и ловко сервировала стол.
– Плевать, – она чуть прищурилась в его сторону, – сегодня еще наш праздник. Будем пировать! – Марья Кузьминична, услышав телефонный звонок, легко повернулась и вышла в коридор, к телефону.
– Да, слушаю! Алло, барышня, я у аппарата! – услышал Сеславинский через неплотно прикрытую дверь.
Она вернулась после короткого разговора с потухшим взглядом и сразу постаревшим лицом.
– Микулич? – поднял брови Сеславинский.
– Да, – кивнула она, не глядя в его сторону. – Звонил со станции, судя по переговорам телефонных барышень. Какая-то там Вишера, я не поняла.
– Что сказал? – Огонек спиртовки под кофейником заколебался, словно на него дунули.
– Сказал, – Марья Кузьминична внимательно смотрела, как кофе льется в тончайшую фарфоровую чашку, светящуюся на солнце, – сказал, что даже если я переспала с тобой, то наши с ним договоренности остаются в силе.
– Уже донесли, – усмехнулся Сеславинский. – Не зря про них ходит анекдот: «друг не дремлет». Ты подписывала какие-нибудь бумаги?
Она кивнула, по-прежнему не глядя на него.
– Это хуже, но не смертельно! Микулич не самая большая птица.
Огонек спиртовки снова затрепетал, напомнив колеблющиеся огоньки светильников-коптилок в землянке под Горлице, когда кто-то откидывал передний полог на входе. Он резко встал, бросился к двери и в два прыжка ворвался в соседнюю комнату. В ней, возле треноги, возился мальчишка гимназического вида. Увидев Сеславинского, он закрылся рукой, как закрываются дети, но Сеславинский вдруг с каким-то сладким чувством, будто этот жалкий гимназист был виноват во всем, во всем, ударил его с ходу, с размаха, как когда-то ударил, ворвавшись в окоп, пожилого немца, державшего в руке штык – нож, как держат свечку. Немец охнул и осел, тупо глядя в светлое, ни облачка, небо. А гимназист, так и не выпустив треноги из рук, полетел в угол, обрушив на себя японскую ширму и каминный экран.
– Он давно здесь? – Сеславинский вернулся в гостиную.
Марья Кузьминична сидела, опустив локти на стол и закрыв лицо руками.
– Не знаю, – сказала устало, не отрывая ладоней от лица. – У них свои ключи, я не знаю, когда они приходят.
– Их несколько? Они – разные? – Сеславинский повернул ее голову к себе.
– Да.
Он сел рядом.
– Маша, родная, надо избавиться от этого кошмара, я тебе помогу.
Сеславинский почему-то припомнил смуглое, словно загорелое лицо Бокия. Его как-то вовсю крыл Микулич. Но и без того Бокий, которого Сеславинский чаще видел издали, казался ему самым приличным в этой компании.
– Сегодня же пойдем, я отведу тебя к начальнику Микулича, напишешь заявление, скажешь, что у тебя нервное перенапряжение… Что-нибудь придумаем! – он боковым взором увидел, как опухает ладонь, на которую он опирался. Точно так же, как тогда на фронте. «Неужели опять сломал косточку?» – подумал Сеславинский, обнимая Марью Кузьминичну.
Читать дальше
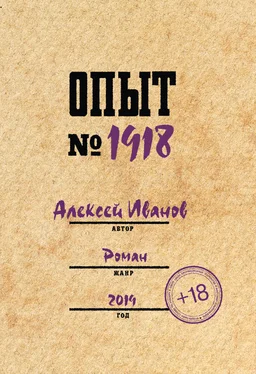
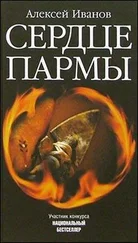
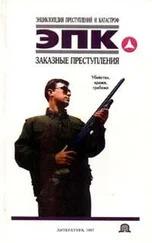
![Алексей Иванов - Боевой жрец [СИ, калибрятина]](/books/27266/aleksej-ivanov-boevoj-zhrec-si-kalibryatina-thumb.webp)