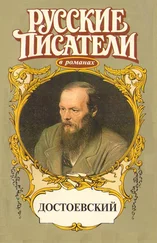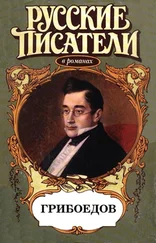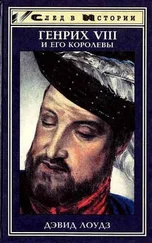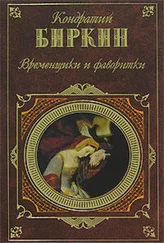С сожалением произнёс:
— Его старший брат ходил в школу и стал проповедником, а этот мальчишкой бежал из дома от несправедливого, придирчивого отца и вынужден был наняться в солдаты, как мог бы наняться в матросы или пойти в подмастерья. Следует вывод, если ты не позабыл ещё правила логики, что образованием пробуждается и формируется ум, что без образования не бывает никакого ума, что несправедливость губит людей и что солдатская служба даже из умных формирует тупиц.
Придвигаясь к нему всем своим тучным телом, властно глядя ему прямо в глаза, монарх отозвался хрипло и зло:
— Да ты сам спроси у него, чего хочет он? И все они, все, кого ты намерен взять под защиту, о чём благе считаешь своим долгом печься, желают ли эти люди хлебнуть хвалёного равенства твоего? Так ведь нет же, ведь нет! Одни отступники, еретики и заражённые бреднями их. Все прочие жаждут быть лучше, встать выше других. Сопливый мальчишка, перед тем как подраться с таким же сопляком, не зная, чем тому досадить, во всё горло вопит, что его отец получше других, а у старшего брата такой конь, такое седло, какого ни у кого не бывало на свете. У них своя и непобедимая логика. Ничтожества и уважают только того, кто лучше и выше всех остальных, заметь, не образованием, не умом, но богатством и властью, или по крайней мере боятся его. Им золото, золото подавай, целые горы. Ради золота они вечно режут глотки друг другу и топчут того, кто не сумел подняться до них и остался ни с чем.
Покачал головой:
— И ради золота ты упраздняешь монастыри? И не боишься, что против тебя восстанет народ?
Генрих так поспешно налил вина, что плеснул мимо чаши:
— Ты помнишь, когда умер отец? Он был тираном и скрягой. Одни его не любили, другие ненавидели, и придворные, и лорды, и торговые люди, и простой народ, которому досаждал он большими налогами. Я тогда бунта боялся, скрылся в Тауэр, окружённый преданными войсками, а ведь ничего не случилось, всё обошлось, и я понял тогда, что правителю важней быть не справедливым, не честным, не ровней солдату и подмастерью, но сильным, сильным прежде всего. Сильного порой ненавидят. Пусть так. Однако же против сильного никто не решится пойти. И не пойдёт!
Пропуская сквозь кулак жидкую бороду, с грустью смотрел, как государь оправдывал себя перед собой, перед ним, вместо того чтобы строго судить, как завещал нам Господь:
— А ведь начал ты тогда справедливостью. За то многие полюбили тебя, надеялись, что ты сделаешь Англию благополучной, счастливой. Ты этого ещё не забыл? Или память сделалась у тебя коротка?
Генрих посмотрел на него с недоверием, видимо, и в самом деле забыв, с чего тогда начал править страной:
— Какой справедливостью? Ты о чём?
Напомнил негромко:
— Ты объявил всем амнистию и заточил в тюрьму тех, кто накапливал для твоего отца богатства и укреплял его власть. После этого я поверил в тебя. Думаю, ты был таким потому, что тебя с детства готовили не к власти, а к духовной карьере, если бы твой болезненный брат не умер так рано, ты бы постригся в монахи и был бы теперь кардиналом. Ничего важней и значительней нет, чем подобное воспитание, ибо оно пробуждает совесть и делает душу отзывчивей, мягче, добрей. Совесть, верная совесть и по сей день не заглохла в тебе. По этой причине ты здесь, по этой причине кричишь на меня. Нынче ты сеешь распрю в стране ради монастырских земель, которые возьмёшь и насытишь казну, и тем поднимаешь людей друг на друга за старую и новую веру. И вот сознаешь, как я вижу, что поступаешь нехорошо.
Монарх выпил вино торопясь и давясь, выхватил из-за пояса тонкий кинжал, одним сильным движением отхватил от оленины толстый кусок, воткнул с прежней жадностью в рот, точно с утра не ел ничего, у самых губ решительно отрезал кинжалом и, жуя и облизываясь, бросил:
— Это опасно, ты прав, однако у меня теперь сильная армия, а самым беспокойным я брошу аббатство-другое и тем успокою еретиков.
Сухо сказал:
— И Англия так же впадёт в ничтожество, как в ничтожество впала Германия после недавней религиозной войны. Помнишь, я тебе говорил, что в снегах Тоутона откопали двадцать восемь тысяч убитых. А сколько подданных у тебя? Около трёх миллионов? Эти три миллиона сидят на земле, работают в мастерских, пашут и сеют, выращивают коров и овец, прядут шерсть и выделывают сукно, сами кормят себя и кормят тех, кто не пашет, не жнёт и не делает ничего. И вот я не хочу, чтобы они убивали друг друга, как это делали разъярённые немцы, не хочу, чтобы после этой резни ты превратился в Ричарда Третьего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу