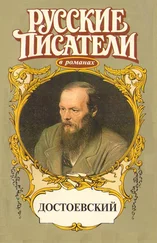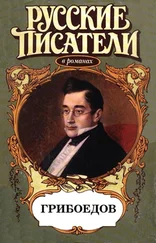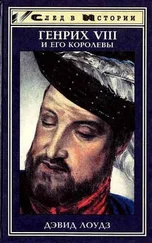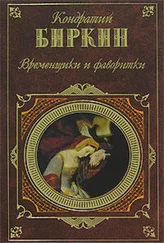И завопил беззвучным, беспомощным воплем, пряча голову в душный мешок.
Его разбудил этот вопль.
Узник ошарашенно возвращался в мёртвую тишину каменной башни. Холодный пот покрывал мерзко трепетавшее тело. Дыхание было поверхностно и поспешно, шире и шире распахивал рот, но воздуха всё не хватало и не хватало ему.
Едва отдышался, смотрел, как окно серело неровным пятном, мирно чернели пустые углы и горбом поднимались согнутые колени. Пот высох. Тело перестало дрожать, почти успокоился, но не решался вновь закрыть глаз: Господь ведает, какие чудища увидит ещё. Был бы рад, если бы заглянули к нему поболтать, хоть кто-нибудь, даже из злейших врагов или круглый дурак.
Поднялся, ощупью добрался до стола, ощупью налил в чашу вина и сделал несколько жадных глотков. Солдат сказал правду: вино было бархатистым и крепким, тёплой волной покатилось по телу. Тогда прилёг, опершись головой и плечами о стену, чтобы вновь не уснуть и не видеть неподобающих снов.
Может быть, через час, через два как будто посветлело окно.
Подумал, что неприметно подкрался рассвет, и облегчённо вздохнул: значит, ждать оставалось недолго. Представил, как выйдет с руками назад, шатаясь на слабых ногах, с несмирившимся сердцем, с тягуче и тошно кружащейся головой. Чем осилит себя? Одной правотой?
Мор беспокойно смотрел, как засеребрилось далёкое небо и голубоватая дымная полоса загорелась в глубокой нише окна и медленно поползла по стене, очнулся, понял, что, конечно, ошибся в расчётах своих. Луна только что поднялась над заснувшей землёй. Вся ночь была ещё впереди. Как-то должен был эту ночь скоротать, чтобы она не утомила его; одиноко подумал, что слишком тяжко будет утром и что об этом лучше не думать; стал вспоминать, что было с ним, когда старый солдат, толкнув ногой дверь, внёс на широком подносе горящие свечи, пахучее мясо, золотистую рыбу и в высоком кувшине это вино, своим волшебством прибавлявшее бодрости усталому духу. Вспомнить почему-то не удавалось, точно дикий кошмар вещего сна омертвил и сковал память. В голове тягуче позванивало. Воображение гасилось бессилием мысли. Ничего не представлялось уму, так что не стало ни образов, ни картин; подумал с трудом, принуждая себя, что страх смерти понемногу выжал уже из себя и что чудовищный сон был всего лишь отзвуком предстоявших мучений.
Шевельнулся, всё-таки был не так плох, как назад тому часа два или три, когда жажда жизни, неистребимая, но слепая, поколебала его, едва не убив волю, едва не погубив самого. К мыслителю возвращалась сила сопротивления. Прошедшая слабость отвратительна. Незачем ей возвращаться, зло протянул про себя:
«Воспитывать себя беспрестанно, и такой жалкий, такой подлый итог!..»
Наслаждался упрёками, их слабость его вполне заслужила. Чем беспощадней становились они, тем светлей и добрей возрождалась поникшая было душа. Более себя не жалел, более не находил, что ужас душевных терзаний предпочтительней скорого ужаса смерти, ненавидел бренное тело, способное от звериного страха дрожать и вопить, затмевая мыслящий дух. Господь с ним. Старые зубы плотно сжались. Между бровями углубился чёрный провал. Застывшее лицо побледнело. Остистый кулак вдавился в мякоть бедра. С гневом напомнил себе, что с самой юности знал, что рискует собой, ещё с того дня, когда решился выступить в палате общин против бессовестной жадности старого короля. Тогда затеплилась гордость при мысли о том, что не уступил тогда старому государю, как не уступает теперь молодому, но рассмеялся, скрипуче сказав:
— Полно тебе, это всего лишь глупейшее самолюбие труса.
И принялся над собой издеваться всё беспощадней, всё злей, точно нападал на врага. Издевательства были заслужены. Они приносили сладкую боль и возмущали его. Разве не своей волей выбрал тернистый свой путь? Разве впервые противился безрассудству и своеволию отца и сына, двух королей, которым судьба повелела служить? Если правду сказать, во всю свою жизнь не встречал никого, кто был бы способен на такое сопротивление и на такой отчаянный риск. Мог бы возвратиться домой, мог бы ещё долго наслаждаться той тихой, увлекательной жизнью, какой жил тот краткий миг, когда, сложив обременительные полномочия канцлера Англии, удалился в своё небольшое поместье, мог бы упиваться блаженным покоем. Душа была бы легка и спокойна, а смерть естественна и неприметна, как сладостный сон, лишённый сновидений.
Господи, каким благостным, каким милым был тот ничем ненарушимый покой! Весело поднимался по утрам с неприхотливого ложа, едва на заре загорланит петух и с ближней колокольни зазвучит первый колокол, призывая к заутрене. Бодро подставлял крепкое тело холодной воде. По обычаю римлян, на кухне съедал два толстых ломтя ржаного тёплого хлеба, медленно запивая парным молоком. После неприхотливого завтрака, подобно Цицерону и Плинию, уходил в кабинет, любовно устроенный в крохотном флигеле на заднем дворе, и часами просиживал над любимыми книгами, ни на что не отвлекаясь от них, решительно никуда не спеша. Жаркие замыслы так и рвались в просветлённую голову, свободную наконец от политических дрязг и придворных сует. Зрели сильные, дерзкие мысли. Будто слышал, как неторопливо и грозно двигались и шевелились они, волнуя даже сильнее, чем юношу волнует любовь. Желание в нём подступало и билось одно: приготовлялся творить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу