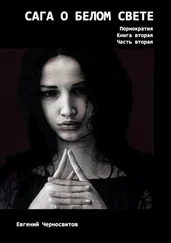Сплошная демагогия.
Краем сознания, подумал о Луначарском.
Вроде и умный человек.
Да и талантливый тоже.
Но ушел к «впередовцам».
Зарысил впереди телеги.
Хотя с ним порывать окончательно не стоит.
В Цюрихе с Луначарским придется плотно побеседовать.
А Швейцария ликовала.
Без всякого повода.
На всякий случай.
А может оттого, что установилась хорошая погода и на нее буквально обрушилось цветение.
Владимир Ильич бродил по улицам Цюриха, гулял по скверам Берна.
Но везде его преследовала мысль только о России, где рухнула монархия и установилась та непонятная власть, которую, даже не имея дефекта речи, нельзя произносить без картавости – «временное правительство».
И если еще к этому добавить, что его обладатель фамилии его с буквой «р» – Керенский, то безусловно станет понятно, что дни неустанно чувствующих себя правителей на строгом учете у неумолимой в своей бесстрастности Истории.
Всерьез и надолго придут только они, большевики, и которых приведет к победе именно он, в миру Ульянов, в мире Ленин, в дальнейшем уповании гений Коммунистической Вечности.
Но сейчас он почти в западне.
А вообще-то, даже без «почти».
Вот шкондыляет безногий солдат.
Осколок, долетевший сюда с фронта.
Война сурово держит Европу в своих клещах.
И гибнут люди.
Пока что просто так, ни за какую-то там идею.
А тут обживалась мода дарить друг другу бумажные цветы.
Словно это был намек, что все настоящее и первородное там, где граница между «есть» и «был» исчисляется мгновением.
Встретил знакомого.
Конечно, эмигранта.
Разговор почти ни о чем.
– Как правило, – говорит знакомый, – достойная жизнь та, которой живут другие.
Впереди возникли невыразительные черты несостоявшегося парка.
– Научитесь красиво прозябать, – вновь гнусит знакомый, – и вы станете героем для подражания. Хоть каждому хочется обрести какое-то неестественное достояние.
А Ленин думает: куда же денутся тогда нытики?
Под словом «тогда» он подразумевает революцию. Не эту, полуигрушечную, почти шуточную, картаво разбросанную по России плакатами и лозунгами.
– Благородство, – тем временем говорит спутник Владимира Ильича, – это кусочек льда, брошенный в кипящее вино.
Это уже интересно.
– Я однажды сказал Льву Толстому, – повел знакомый свой рассказ дальше, – что вырос на его книгах. Но мне стыдно в этом признаться. «Почему?» – спросил он меня. И я ответил, что они были слишком сложны для моего поколения. И терзался от его имени.
Ленин на мгновение остановился.
– И что сказал Толстой?
– «Не переживайте зря. Я сами читаю себя с отвращением».
– Да, это ответ гения, – произнес Владимир Ильич. И через мгновение добавил: – Истинный писатель тот, который работает на будущее.
Наверно, Ленин пропустил, что-то из ранее сказанного его знакомым, иначе не услышал как бы что-то ранее декларированное:
– Только умный может оказаться в дураках. А у того, у кого появляется корявая возможность доскрестись до совершенства, вряд ли уступит ее другому.
Наверное их возможность захватить власть тоже назовут «корявой».
Но какое это имеет значение?
Важен результат.
И не только он.
Но и ощущение своей правоты.
Причем во всем сразу и не в каких-то частностях в отдельности.
Разговор был не из тех, о которых распространяются, что они состоялись.
И больше тут присутствовал спор, похожий на разрядку духа.
– Вы – транжира фамильного серебра, – сказал Владимир Ильич, отодвигая от себя массивную сахарницу с изваянными по краям ее ангелами. Ибо хорошо знал того, с кем сейчас вел речь. Он, как говорится, чужой судьбой готов был влезть в свой гроб.
Да, да! Предлагал невероятное: чтобы Ленин очутился в России в гробу.
Тоже в фамильном, как и серебро, из которого они пили чай.
– Давайте остановимся на том, – сказал Ленин, – что дареный сюжет ничему не обязывает. Я никому не скажу, что подобное предложение исходило именно от вас. Но варианты на предложенную вами тему возможны.
Швейцария напоминала вечную невесту на выданье.
Она как бы хвасталась своей ничейностью. Суммировала и хранила в неприкосновенности свои предпочтения.
Но старалась не оглашать их при посторонних, поскольку была наводнена разного рода шпионами и соглядатаями.
Поэтому Владимир Ильич не исключал, что в уютном эмигрантском доме нет такого укромья, из которого пристально не следят за каждым его жестом, не говоря уже о словах, которые, – знали почти все, когда-то канут в хранилище собрания сочинений.
Читать дальше