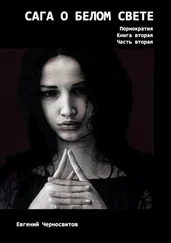Без грузинского акцента.
Бережно прошелся по старым адресам.
Приняли, но без радушия.
Нужно было находить новое какое-то убежище.
Нынче у него на эту тему встреча с Левой Розенфельдом.
А вот и он сам.
В меру нервен.
Чуть больше основателен.
– Особого комфорта не обещаю, – говорит Розенфельд. – Однако люди надежные и, главное, ушибленные нашей идеей.
Ну что ж, циничность не последняя черта его характера.
С неба срываются снежинки.
Редкие, как милостыня на глухом перекрестке.
– Страшно было бежать? – интересуется.
– Да по всякому, – решил не распространятся на эту тему Коба.
Кто его знает, как дальше жизнь повернет, может, доблесть превратится в фарс, а фарс, наоборот, в доблесть.
Эта мысль, вообщем-то, не его.
Ее когда-то озвучил Мардас.
Как розы среди зимы,
Тепличны сделались мы.
Эти строки из песни, которые учитель любил выкартавливать в минуты легкого подпития.
«Нужно съездить к матери», – думает Коба и продолжает шагать рядом с сосредоточенным Розенфельдом.
Кто-то ему сказал, что революционер по чувствам должен быть русским, но разуму кем угодно, а по внешности иудеем.
И вот сейчас с одним из таких гибридов он идет.
Пока что в неведомость.
Но по адресу.
Хозяин – раболепен.
Значит, в самом деле ушиблен идеей.
По фамилии более чем не грузин – Морочков.
Руки выдают подозрительность.
Пальцы не находят себе применения.
А – по слову – сдержан.
Это как раз то, что нужно.
Болтуны, как уже заметил Коба, более чем прозаичны.
Один даже признался:
– Заарканю тайну душой, и она в ней как пойманная рыба бьется. Так и норовит на волю вырваться. И тогда начинаешь разными аллегориями сыпать. А то и просто-напросто – и без оных – проговоришься.
Вечер Коба проводит, однако, в одиночестве.
Надо остыть от того, что полошит душу.
Конечно же, от подозрительности.
Не думал, что она скопилась в нем в таком количестве.
И на водку налегал,
Нелегал.
Эту – полупритчу – слышал он в каком-то кабаке.
Там – разгул безмнения.
Еще по приезде почти столкнулся с начальником тюрьмы.
То ли сделал он вид, что не узнал Кобу, то ли в самом деле не думал его тут повстречать. Хотя – по документам – наверняка он значился во Всероссийском розыске.
Опять в душе заворочались стихи.
На этот раз неведомо чьи:
Начинается в Сибири
Смысл, какой легко понять,
Всем, кто раз, два, три, четыре,
Смело превращает в пять.
Арифметику расчета
Знает каждый идиот,
Что на плаце эшафота
Время больше, чем идет.
Время мчится и искрится
Православною слезой,
Чтоб однажды оступиться
Под лихой командой: «Стой!»
И покатится покато,
Бесшабашна и легка,
Чем-то пагубным богата
Безнадежная башка.
Стихи едят сознание и подмывают самого взяться за перо.
Что-то такое шутливое выдав:
Не в Астрахань мой путь,
Не в Элисту.
Пробегусь лишь рифмами
По листу.
И лист рядом.
И рифмы под богом.
Но это все несерьезно.
Не затем он бежал из ссылки, чтобы заниматься всякой ерундой.
Хотя тот же Розенфельд сказал:
– Интеллектуально мы слабы.
Даже дремучи.
Потому работы непочатый край.
И вот ею-то и надлежит заниматься Кобе.
Кажется, в этом слове выкартавливалось не только «р», но и «д».
– Нас опередили!
Ленин повторил это дважды.
– Самым невероятным способом опередили!
Свет мерк за окном. День уходил на убыль.
Ворох газет на столе у Владимира Ильича уже не пах типографской краской, хотя это были совсем свежие газеты, от них несло прахом времени, которое жгло себя у всех на виду.
Одно время Ленину хотелось выкинуть все эти газеты к чертовой матери. Так надоело читать образчики заигрывания французской буржуазии с наиболее левым из меньшевиков Чхеидзе.
Но нужен какой-то ответный ход.
Но – какой?
Как показать, что большевики способнее, чем о них думают все, кто стоит по отношению к ним в оппозиции.
– Чхеидзе… – вновь повторил он, вышуршил из газетного множества, где этого лидера довольно прилично ругают.
Тикают часы.
Идет на убыль день.
Рождается новая эпоха.
Он это чувствует.
Хотя настоящих схваток еще нет.
Есть только предболье.
– Нас опередили!
Буржуазная революция в России – это не начало чего-то грандиозного. А, скорее, конец того, что естественно отжило.
Читать дальше