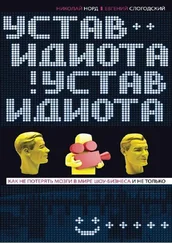– Фью-ить, фью-ить, фью-ить, – непоседливыми синичками пролетали над головой пули. Но Григорий не кланялся им. За день боя привык к посвисту свинца, как привыкают к холоду и жаре. Жажда притупила ощущение реальности, и чудилось: не афганские горы, а родные с детства кубанские степи бегут к горизонту, не пули свистят, а птицы резвятся в юной зелени ракит. Каждая клеточка большого, крепкого, но обезволенного жаждой тела просила влаги. Узловатые пальцы инстинктивно потянулись к пластмассовой литровой фляге, цепко схватили ее, поднесли горлышко к сухим, запекшимся губам. Он исступленно тряс флягу, надеясь, что потечет из нее хотя бы малая живительная струйка. Но чуда не произошло. Фляга была совершенно пуста. С трудом оторвался от горлышка, облизнулся, надеясь, что хоть на губе остался влажный след. Шершавый язык подчинился нехотя, словно чужой, как и все изможденное жаждой тело. Повесил бесполезную флягу на пояс.
Сквозь красные круги в глазах с трудом различил фигуру в серой пуштунке, прицелился, но никак не удавалось затаить дыхание, чтобы сделать точный выстрел. Все глотал и глотал открытым ртом горячий воздух и не мог отдышаться. Зло нажал на спусковой крючок как огрызается загнанный и обессиленный зверь. «Может, забиться в какуюнибудь нору и отлежаться до вечера? – вкралась крамольная мысль. Но тут же отогнал ее: – Встань и иди! Тебя же будут искать. Еще ктонибудь из-за тебя на пулю нарвется».
Встал и побрел, не разбирая дороги вниз. В желудке запекло, словно там кто-то раздувал раскаленные угли. От боли потемнело в глазах. Лихорадочно пошарил вокруг дрожащими руками, вырвал клок травы, сунул в рот и начал исступленно жевать. Трава была сухая, жесткая, горькая на вкус и не утоляла жажду. Впервые подумал, что проще умереть, чем терпеть эти муки.
Ноги ослабли, и он упал, покатился по склону. Подумал: «Может, пуля опрокинула?» Мысленно ощупал себя. Болели сбитые в кровь руки, ныли стертые новыми ботинками ноги, жгло исцарапанное о камни лицо и сильно пекло внутри.
Внизу в ярких лучах полуденного жаркого солнца маняще серебрились воды Кунара. Миллионы, даже миллиарды литровых фляжек протекали мимо, но Григорий понимал, что до реки ему уже не дойти. Последние силы покидали его разбитое тепловым ударом тело. Вдруг, вопреки всему, он встал, и негнущиеся ноги сами понесли к заветному бугорку на плато, где должна была собраться вся группа. Сквозь радужную пелену Григорий вдруг различил очертания вертолета. Он опускался на плато, взвихривая пыль, как раз там, где условились.
– А как же я? Я не могу идти! – вырвалось из груди, словно его могли услышать внизу.
Постояв минуты две, вертолет начал медленно подниматься и улетел в сторону Джелалабада.
«Без меня?! Нет, нет… не может быть. Они не могли меня бросить. Они ищут меня!.. Но почему вертолет все тоньше и меньше?».
Григорий почти физически ощутил, как обрывается невидимая нить, связывавшая его с подчиненными.
– А-а-а-а! – вырвался крик отчаяния, и неведомая сила снова подняла его.
Он побежал, словно можно было догнать вертолет. Добежал до небольшого каньона, скатился по крутому откосу вниз, запрыгал по вымоинам. Упал, даже не поняв, как это случилось. Может, потерял сознание, потому что привиделось другое, далекое лето его детства, и он в коротких штанишках скачет на гибкой лозине, словно на лошадке, по улице в родной станице Крымской. Подбежал к колонке, нажал рычаг, и мощная струя воды ударила в землю.
Оставалось только нагнуться и оторвать кусочек струи губами. Но какой-то другой мальчишка, знакомый до завитков волос на затылке, наклонившись, пил эту воду. Пил, разбрызгивая струю, и алмазные капли разлетались по его лицу, мочили рубашку. А рядом стояла молодая, высокая казачка, его мама, самая красивая мама на свете, и радостно улыбалась…
Он очнулся, рванул задубевший от соленого пота ворот куртки и снова впал в забытье.
Теперь уже другой мальчик, а может, тот же, только повзрослевший, разбежался и прыгнул в тихую заводь Москвы-реки, долго плыл, то выныривая, то исчезая под водой. Неужели может быть столько воды, что ее невозможно выпить? Что она может обнимать тебя и ласкать прохладой! И неужели может быть что-либо прекраснее этой ласки?
Он очнулся, посмотрел в пустынное небо, на котором было только солнце, такое жгучее и ненужное. Заставил себя подняться и идти.
– Фью-ить, фью-ить! – просвистели пули. Он уже знал: они его не достали, раз просвистели. Кто-то другой, всевластный, снова толкнул его в спину, оглушил чем-то мягким по голове, и он плашмя растянулся на дне каньона и увидел еще один сюжет из прежней жизни. Он идет во главе роты среди забайкальских сопок-голышей, а пороша все сыплет и сыплет, больно стегает по лицу. От ее холодных колючек почему-то становится радостно и весело. Он достает флягу и пьет чай. Кипяток обжигает, но он не может оторваться от горлышка. Вдруг сопки покрываются зеленью буков, и упругие воды Черемоша влекут его к перекату. Он плывет, глотая живительный сок Карпат, и не может утолить жажду.
Читать дальше