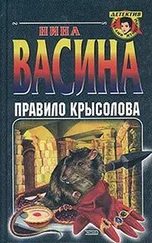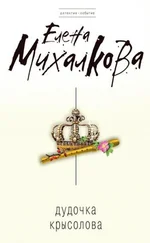Адольф улучил момент, когда Ханфштенгль лениво, но самоуглубленно беседовал с роялем на тему Бетховена.
— Пуци!
Па-па-па-памм!
— Чего?..
— Как думаешь, — быстро проговорил Адольф, — Гессик наш — часом не пидор?
Па-па-па-памм!!
— Гессик не пидор.
— Но говорят же, что…
Па-па-па-памм!!
— Гессик дурачок, — мягко сказал Пуци, — Отстань, Адольф.
Казалось, Пуци просто-напросто глух. Как Бетховен. Чтоб проверить это, Адольф еле слышно ляпнул:
— Не может же быть пидором тот, кто плачет, когда его трахают!
Па-па-па-памм!!!
— А ты его не трахай — он не будет плакать.
Да. Глухой тут был один. Бетховен.
И идиот только один. Не Бетховен. И, как ни обидно, не Ханфштенгль.
А Пуци пожалел, что сдержался и не сообщил Адольфу, что иметь человека, который от этого плачет, вообще-то называется не «трахать», а «насиловать» — и от всей души посочувствовал Гессу. Хоть это и было бездарным занятием — сочувствовать. Сука не захочет, кобель не вскочит…
И все же ему было жаль Гесса, нежного Гесса, не умеющего говорить «нет» предмету своей чертовой любви.
— Ты фон Шираха знаешь? — спросил вдруг Адольф.
— Знаю. Директор веймарского театра. Экс. Покинул кресло в знак протеста против Версальского мира… кажется. Жена у него прелесть.
— Он меня приглашает на обед, — доверчиво сказал Адольф.
— Ну так иди. Оденься прилично и иди. Веди себя хорошо. Семья из тех, что твои уличные друзья зовут «фу-ты ну-ты», — усмехнулся Пуци.
— Сын этого Шираха, между прочим, поэт, — Адольф порылся в бумагах на столе и извлек пожеванный номер «Национал-социалиста», — Славный, кажется, паренек.
— Не поэт, а стишки пишет. Бальдур его зовут. Паренек как паренек. Распиздяй, конечно. Избалованный, конечно. И его родители почему-то считают, что из него выйдет великий пианист — это все равно, как если б ты считал, что из Гессика выйдет неплохая танцовщица кордебалета в «Лебедином озере».
В ту ночь, когда Бальдур остался с Эдди, Ронни всю ночь бродил по родному городу, как по чужому.
Днем Мюнхен нравился ему. Ночью он был как любой город, в котором у тебя не к кому пойти. Он не враждебен — он просто равнодушен к тебе, что б ты ни делал. Хочешь, сиди на скамейке, все больше скукоживаясь от ночного холода, хочешь, накручивай круги по улицам, хочешь — плачь, а хочешь — смейся. Только не стучи в чужие двери и не заглядывай в чужие окна, светящиеся нежным семейным светом: в золотистом круге под уютным абажуром — книжка, и мягкий женский голос читает детским глазенкам, внимательно блестящим из полумрака, сказку на ночь. Завтра не вставать в школу, а потому из «смешную или страшную?» мама, под тихий восторг аудитории, выбирает страшную, после которой до полуночи будут перешептыванья в темноте. Как ты думаешь, они щас есть? — Дурак. — Ну есть? — Да кто? — Кры-со-ло-вы. — Нету. Сейчас только крысоловки есть, как у нас в подвале, туда сыр кладут. Крысы любят сыр. — И музыку тоже, да? — Да, отстань, я сплю. — А они детей теперь не уводят? — Кто? — Крысоловы… — Дурак! Сказано тебе — их нету. И спи. — А ну и что… если даже и есть, то дети ведь музыку не любят, как крысы? Вот ты же не любишь, когда приходит герр Либерман тебя на пианине учить? — Не на пианине, дубина, а на фортепьяне. И спи. Ненавижу музыку. — Я тоже… значит, он нас не уведет… мы ведь не пойдем, да?
А после полуночи — будут забирающие пол-дыханья сны.
Теперь и Ронни ночами лежал без сна, глядя не на коричневые обои, а на картинку с Крысоловом, и думал о том, что нет, неправда это — что Крысолова больше нет.
Толпа подростков в коричневых рубашках похожа на стаю крыс. Молодых крысенят, которые загрызут тебя, если ты попытаешься помешать им слушать музыку Крысолова. Глупые, глупые, думал Ронни, вы не боитесь, не думаете о том, куда он вас заведет…
Ронни знал, кто ОН такой — он тоже купил «Майн Кампф», чуть позже, чем Бальдур. И иногда подходил — окольно, будто вор или шпион — к толпам нацистов.
Гитлер. Гитлер. Адольф, Адольф.
Он нанялся музыкантом в крошечный кабачок — посчитав, что ни на что более серьезное не способен. Вскоре кабачок — впервые за годы без Гольдберга-старшего — начал регулярно наполняться по вечерам, чего, как честно признался старый Йозеф, давно уж не бывало, он вообще подумывал о том, чтоб закрыть эту убыточную лавочку, жаловался он Ронни, можно подумать, что и евреев в городе не осталось… Как выяснилось, осталось немало. И кое-кто из них советовал Ронни — парень, не трать ты на нас свой талант, ты мог бы играть в более приличном месте, денежки лопатой грести — но теперь Ронни уже не хотел покидать кабачок. На жизнь ему хватало, мама больше не расстраивалась, и, кроме того, здесь он встретил Марию — после чего уверовал, что бросить ЭТОТ кабачок — плохая примета.
Читать дальше