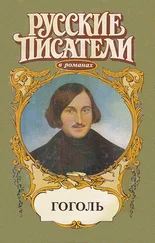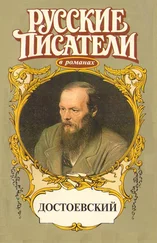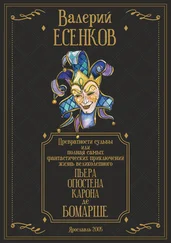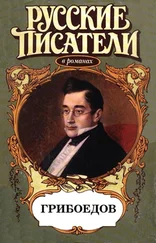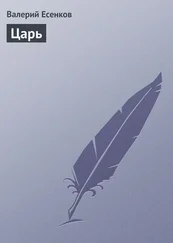В этой безлюдной беззвучной прохладе он неторопливо, раздумчиво перечитывал Данте, любимейшие сочинения Пушкина, бессмертную «Илиаду», изумительно поэтично и тонко переведенную Гнедичем, твердо уверенный в том, что всего несколько истинных книг довольно для наполнения всей умственной жизни разумного человека, и, напитанный соками их, выращивал поэму изо дня в день за простой, давно крашенной деревянной конторкой.
Мозаичный мраморный пол приятельски шелестел под подошвами уже много раз чиненных Сапогов, когда он подолгу шагал, давая настоящую силу набрать каждой мысли, каждому образу, каждому слову, каким выразить должно ту мысль и выставить на всеобщее обозрение образ, непременно единственным, лучшим, иначе нельзя, иначе из творчества выглянет одна пустая замашка безмысленного пера.
Славное было, сердечное, необозримое время! Кто, обреченный творить, о таком не мечтал! Кто, одаренный неутолимой страстью труда, не бросался в него с головой, как в целебные волны волшебного моря! Кто бы, поутру вставши к станку, не творил!
Николай Васильевич безучастно, беззвучно глядел сквозь двойное стекло на обильно заснеженный двор, от одного вида которого так и тянуло крепким морозом, студеной зимой, и видел себя молодым, с коротеньким гусиным пером, с растрепанной головой, с ликующими живыми глазами, с проникновенно сосредоточенной мыслью на взволнованном просветленном лице, с толпой удивительных образов, подступивших к нему, которые своими речами, гримасами, вывертами рук или ног, прыжками, трусцой напористо, весело осаждали его.
Да, он в вечном городе Риме творил, увлеченно, взыскательно, обдуманно, счастливо и со смыслом как никогда. Синьор Челли, хозяин, сухой краснощекий старик, в ноздреватым раздувшимся носом, с круглой, как мяч, головой, потерявший почти все когда-то чернокудрые волосы, столкнувшись с жильцом на каменной лестнице, когда он в пятом часу отправлялся обедать к Фалькону, озадаченно вопрошал, покручивая на самой макушке светлый старческий пух, снявши почтительно шляпу, сбоку приглядывая хитрющими глазками:
– Синьор Никколо, что вы поделываете так долго у себя наверху? Для чего вам сидеть взаперти, когда все форестьеры с утра до ночи бегают, подобно газелям, чтобы не пропустить осмотреть какой-нибудь обвалившийся камень, который я не взял бы на ремонт вот этих старых ступеней? Берегите здоровье, это я вам говорю, почаще выходите на воздух, на ваших бледных щеках совсем не играет румянец, который должен всегда украшать уважающего себя человека.
Остановившись беспечно, с привычным вниманьем приглядываясь к нему, всякий раз вдруг улавливая промелькнувшую новую интонацию, новое слово или новый поворот головы, делавший старого Челли странно похожим то на римского императора, то на шута, он отвечал, дружески кланяясь:
– Благодарю вас, синьор, ваши щеки всегда лучезарны, а я тоже иду прогуляться, чтобы вконец не испортить здоровья, о котором вы так сердечно печетесь, за что я, поверьте, признателен вам, однако не могу не сказать, что долгая прогулка хороша и приятна лишь после хорошей и долгой работы на благо себе и другим.
Старый Челли заразительно мелко смеялся, обнажая обломки почернелых зубов, покачиваясь на всё ещё стройных ногах, лукаво шмыгая носом:
– Работа! Что у вас зовется работой? Я часто слышу, как вы ходите там у себя туда и сюда, это вы и зовете работой?
Ничего иного не ожидая от старого Челли, долгим черным трудом заработавшего себе на старости лет этот обшарпанный, повидавший виды каменный дом, благодарный ему после долгого одиночества у себя наверху за этот глубокомысленный старческий лепет куда больше, чем за какую-нибудь философическую беседу, он признавался, весело улыбаясь:
– Я не просто хожу целый день туда и сюда. Я, видите ли, синьор, должен написать огромную книгу, в которой так много страниц, как листьев на старом осокоре, что рос когда-то у нашего дома.
Старый Челли вздымал в изумлении кустистые брови, отступая на шаг, вопрошая:
– Так долго? Вы ходите там уже много дней!
Он весь по привычке сжимался, уязвляемый в это самое место сотни, может быть, тысячи раз, однако от старого итальянца, мелкого лавочника, этого рода попреки, натурально, не могли причинять особенной и продолжительной боли, и он, очнувшись, беззаботно усмехаясь в усы, старательно пряча мгновенное замешательство, спокойно, вежливо изъяснял:
– Ваш Данте, ваш величайший поэт, свою «Комедию» писал, может быть, двадцать лет.
Читать дальше