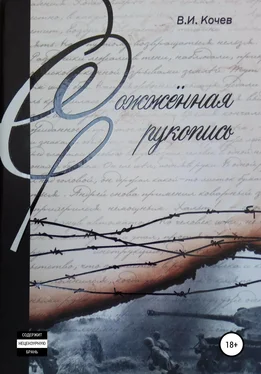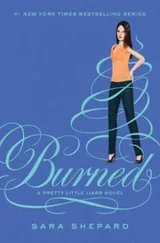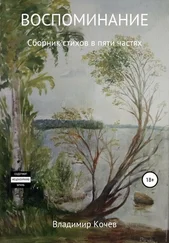«Не хощу я твоёво квасу», – вдруг взъерепенилась Любка и выскочила из-за стола. Причина её каприза выявилась, когда мама стара вернулась из чулана с пустой кринкой.
«Покась ека, крыношна блудниса», – ворчала она. Что ж, пришлось есть окрошку без сметаны, которую Любка давно уж вылизала. Вот почему она забегала в чулан, а после облизывалась.
Но ничего, напоследок хозяйка выставила главное угощение – мёд. Не едал я ещё пчелиных конфет, да много и не съешь – сладок больно этот мёд.
Незаметно подсела и Любка и заерепенилась: «А чо, Катерине-то боле, мне-то мене». И зауросила.
«На, я не хочу», – отдала свою долю Катя. Любка весело всё съела.
«Прокукситса, просситса, опеть за своё», – сетовала, мама стара. Но Любку круто-накруто не счували. Она была последняя из семерых детей в семье. И время ей досталось злое. Вот вся жалость и досталась ей. И «находила» она на своего «баскова» тятю. Если чо подсобить, али прибраться, – на то Катерина есть. А Любка, «покась ека», в это время весело скакала. Робятам потеха, матери докука.
Сродный прадедушка и добрые тётки жили неподалёку. Но мы шли к ним в гости, принарядившись. И дедушка по такому случаю надевал праздничные пимы. Они были когда-то белые, вышиты красным гарусом. Теперь всё это слилось в один тёмно-серый цвет. И дедушка уже плохо слышал. А тётки говорили, что певун он был. Что ране, в добры времена, собирались свояки да проголосно пели, так, будто разговор промеж себя вели.
А сейчас вот Любка да Наташа у него в гостях пели да танцевали. В городе-то Наташа стеснялась – бородавки на руках. Она обычно стояла, смотрела, спрятав за спину руки. А здесь мама стара свела их, вывела. Завязала узелок на бородавке, пошептала и бросила ту нитку под пяту двери.
Наташа танцевала по-городскому, Любаша по-своему. Тётки хлопали в ладоши, улыбались. Глухонемая тётя Маня шибче всех радела, махала пальцами, по-доброму морщилась лицом. Но Любка снова завела бузу: «Наташку боле хвалили». Начала дразниться, плеваться. Тётки увещёвали её, но строптивая гостья не унималась. И тогда добрый дед осердился: «Ты, шкура, изыди, я с тобой грешить не стану».
Тётки кинулись, было за ней, а дед послал ещё и вдогонку: «Пущай побегат, посерет на пятки, прокукситса – меньше ссит». Дед был самый старший и наущал молодых: «Учи дитё, пока поперёк лавки лежит, сичас ерепенитса, после куражится да измываться зачнет». Но Любка «покась ека» была последняя в семье, ей всё прощалось, такой она и осталась. Безобидные детские капризы переросли в эгоизм.
Баня в деревне, плешшись да плешшись
Церковь душу облегчает,
Баня тешит твою плоть.
А в субботу тётки топили баню. О бузе, которую учинила Любка, никто уж и не помнил. Девчонки вышли с мокрыми волосами и, как тётеньки, важно пошли к деду пить с мёдом чай. А меня, не спрашивая, затолкнули в предбанник, сдернули короткие городские штанки. Не успев подумать, я очутился в парной. Там было жарко, мокро, окошко с ладошку. Огляделся. Тётки чему-то радовались, гоготали. Да это вроде были и не они, совсем без всего. Я смотрел снизу вверх на добрых, весёлых, великолепных животных. Тугие формы, исполненные по законам гармонии, были для меня бесполы. Наверное, это дар ребёнка – оценивать беспристрастно совершенство природы. После мы смотрим на женщину как на противоположный пол. Но мне недавно стукнуло семь лет, и я уже что-то начинал понимать. Быстро прикрыл кутьку. А в ответ они веселей да громче загоготали: «А ты и жопку прикрой!» Что я и сделал другой ладошкой. Весёлый хохот не кончался. Да, баня в деревне – это праздник. Меня, чумазого, окатили, помыли голову мыльной золой, окатили ещё раз, поцеловали и вытолкнули. После деревенской бани всё по-другому кажется: солнышко ярче, небо голубее, трава зеленее, воздух вкуснее.
«Баня да церковь – две благости, одна телеса правит, друга душу осветлят», – говорила сродная бабушка.
Любка сидела за столом смирно, не куражилась, с опаской поглядывая на строгого деда. А тётки весело вспоминали, как мой папка балагурил. Баню топили по очереди, и приглашали соседей свояков. Я родяшший был. До бани меня надо было нести по деревне. Но мужик с ребёночком на руках – это всё равно что баба. Тетюнькаться с робятёшками – не мужицкое дело. А в бане уже ждала меня моя мама. И отец пронёс меня по людной улице, но так, что никто не заметил. Мать протянула руки из предбанника, чтобы принять кагоньку, а отец подаёт ей саквояж. «Ты чо пелекуешша, робенка давай!» – кричит она. «А ты его уж держишь», – отвечал, смеясь, отец. Так отец шутил, а это было незадолго после горя – раскулачивания.
Читать дальше