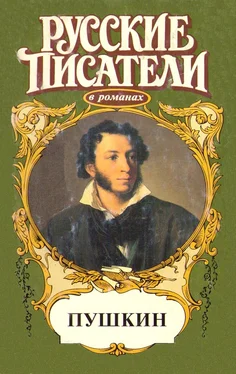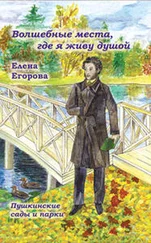Прямо с порога грянул выстрел, Пушкин стоял, прислонясь к притолоке, пот выступил у него на лбу, он вытер его тыльной стороной ладони, перевёл дыхание. Алексеев глянул во двор: там, как и следовало ожидать, никого не оказалось, только куры забились в пыльные кусты. Петух, распустив хвост, с клёкотом отгребая землю, делал вид, что сможет в случае чего защитить свой гарем. Кроме кур да их повелителя, свидетелем выстрела оказались ещё два молдаванина, остановившиеся напротив ворот.
Они медлительно рассматривали двор, акацию, с которой осыпались мелкие веточки, пса, выглянувшего из будки и уже совершенно собравшегося залаять.
Потом двинулись по улице, всё с теми же важноравнодушными лицами. За ними следовало медленно оседающее облако пыли...
Всё в богоспасаемом городе Кишинёве было таким привычным, устоявшимся до одури, что Алексеев чуть не рассмеялся. Однако Пушкин опять целился, непонятно во что, губы были сжаты.
И тут Алексеев заметил: на акации в углу двора пуля отбила кусок старой коры, и смугло выглянула изначальная кожа дерева, будто живая. Будто часть лица, а ещё отбить, так и всё появится.
Алексеев хотел и не смог тронуть друга за плечо, остановить. Теперь в том было одно: холодное удовольствие от своей меткости.
— Лоб истинно медный, — приговаривал Пушкин, опять целясь. — Он у меня запоёт так, что чертям тошно станет. Языком стучать — это тебе не под дулом стоять.
— Позволь, — остановил его Алексеев. — Он, ты сам рассказывал, дуэлянт бесстрашный и жестокий. Скольких к праотцам отправил!
— А я не дамся. Меня так скоро не свалишь.
Наконец несколько успокоившись, он сел на старый ствол порушенного тополя, заменявший в этом убогом дворе скамейку.
— Нет, каков подлец!
Больше он ничего не сказал, сидел вольно, прислонившись спиной к беленой стенке, свесив руку с пистолетом между колен.
Возле старой колоды, из которой поили скот, вились и жужжали оводы. Земля была истолкана копытами, вся в зелёных лужах. Тяжёлый жук без разбору, как загулявший, тяжело промчался над головой. В ушах стояли слова, осколки фраз, какие могли раздаваться у него за спиной. А он разгуливал по Петербургу, не подозревая обидчика!
...Жужжанье клеветы, жужжанье клеветы — это ещё ре было строчкой, но клевета для него отныне и навсегда осталась именно — жужжащей.
Он жаждал отмщения. Однако для того, чтоб дуэль состоялась, надо было умудриться попасть в Москву. Несбыточно! Хотя первое время он и предполагал скорее своё возвращение из ссылки или надеялся на отпуск по семейным обстоятельствам. А пока он тренировал руку, да и нервы тоже. В предвидении того, главного поединка стрелялся часто, иногда при жестоких условиях, но всё, к счастью, кончалось бескровно.
Кроме того, как всегда, пользовался он главным своим оружием. Во втором послании {из Кишинёва) к Чаадаеву есть строки:
Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде,
Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор:
Отвыкнул от вина н стал картёжный вор?
Стихи были напечатаны в журнале «Сын отечества» за 1821 год, намёк приведённых строк был более чем прозрачен. Друзья даже пытались попенять поэту: зачем так жестоко?
Как они не понимали — такое оскорбление не этими строчками, только кровью можно было смыть! Но дуэль не состоялась, хотя в 1826 году привезённый в Москву по приказу нового императора Пушкин прежде всего послал вызов Толстому. Однако к этому времени и пушкинский пыл поунялся, и Американец был уже совсем не тот. Судьба жестоко рассчиталась с ним. Все дети его были не жильцы. И умерло их ровно столько, сколько (одиннадцать!) жизней загубил их весьма просто относившийся к чужой смерти отец.
Но — вернёмся в Петербург.
...Топнув ногой так, что брызги попали на панталоны, он вошёл в дом, который худо-бедно, но существовал: другого у него не было. И Муза приходила к нему в этот дом по грязным мостовым Коломны, не пятная своих ослепительных одежд.
Он хмыкнул, взбегая по лестнице, хмыкнул оттого, что представил Музу этакой охтенкой, по утрам разносящей молоко в высоких кувшинах.
Впрочем, молоко разносили прежде, чем он просыпался.
Никита вошёл в комнату, стоял у двери, повернув русую, с проседью, голову к плечу, переминаясь с ноги на ногу, будто готовясь поделиться стыдным. Наконец сказал:
— Только отобедали, тут по вашу душу один и заявляется. Бумаги просил прочесть. Любитель... Нетерпение его, скажи, под микитки тащит: что ещё не напечатано, просил дать на один всего день.
Читать дальше