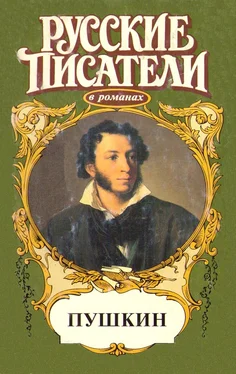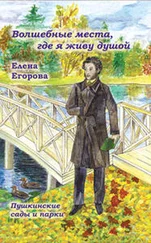Но он знал свою власть над ней, как и над женщинами вообще. Суть состояла в том, чтоб не отгадывать их настроения, их резоны, их надежды. Гораздо вернее было, подходя как можно ближе к предмету осады, показать себя. Свою готовность служить, забавлять, злословить, покорять, а также — ив том главное! — быть покорённым...
Он опустил голову перед Катрин. Как бы, по какому-то случаю, повинную, но весёлую, кудрявую голову.
— Я дважды чуть не сломал себе шею из-за вас, мадемуазель, месяц назад, перемахивая через тот ручей на острове — вы помните? И вчера на балу у Строгановых, отыскивая вас в толпе... Сегодня я жду награды...
Какая ему нужна была награда, он сам не знал. Привычная фраза скользнула под щегольское щёлканье каблуков и, как он полагал, должна была заставить девушку исполниться надеждой.
В игре, какую он вёл, главное заключалось в том, чтоб все вокруг были исполнены надежды.
Однако Екатерина Николаевна Гончарова была вовсе не глупа и не легковерна, как принято иногда считать. Кроме того, она была горда, довольно скрытна и весьма остроумна. Стало быть, должна была понимать незавидность своей роли: фигура для отвода глаз. Поскольку во всех гостиных Петербурга отлично известно: Дантес — смотреть жалко — так обмирает от любви к жене этого ревнивца Пушкина. Екатерина Николаевна понимала, как несчастливо и, главное, как безысходно влюбилась, но изо всех сил старалась принять вид человека, совершенно довольного судьбой. Иногда это удавалось.
— Какая же награда заставит вас забыть, что я должница? — Она смотрела на Дантеса будто бы совершенно равнодушно. В прищуренных глазах сквозило даже что-то жестковатое.
— Я не спешу, мадемуазель. Когда должница такая прелестная, будущее улыбается мне.
— Ещё бы — спешить! Вам просто негде хранить свои награды, барон. Не в кавалергардских же казармах? Не правда ли? Или ещё лучше: не в конюшнях, я надеюсь?
— О, нет, нет! Разумеется. — Какую-то минуту он не мог привычно овладеть разговором, и это его озадачило. Однако новоиспечённый барон Геккерн недаром слыл остроумцем и даже злоязыким. Недаром именно поэтому стал он любимцем великого князя Михаила Павловича, ценившего острое, а особенно обидно острое слово. Но сказанное так, чтоб никаких претензий: чисто, весело по-французски.
— Награды прекрасного пола я храню только здесь. — Дантес стукнул слегка себя по левой стороне груди. — Мадемуазель может быть уверена: в совершенной тайне.
— Барон имеет столь обширное сердце? Это хорошо. Но сам он отдаёт долги? Или только коллекционирует награды? — Екатерина Николаевна смотрела на него спокойно, но тёмные глаза её казались влажными.
А вот это уже никуда не годилось. Высказывать ему обиды было напрасное дело. Дантес поморщился, но через секунду весело и удивлённо поднял бровь:
— Долги? Бог мой, какие долги? Я всегда выигрываю, в долгах пусть сидят старые мужья, мы с вами займёмся чем-нибудь более весёлым.
И опять он не смог бы ответить на вопрос, что же это могло означать: «мы займёмся чем-нибудь более весёлым»? Любовью? танцами? шарадами? мороженым? Впрочем, у Карамзиных не танцевали и мороженым, кроме как на праздники, не угощали...
Это вообще был дом не для Дантеса. Но братья Карамзины, Андрей и Александр, считались его товарищами [152], Софья Николаевна приглашала его более чем любезно. Но он никогда не появлялся бы в их доме так часто, если бы не Натали...
На этот раз он чувствовал, что попался.
«ОН СТАЛ НЕПРИЯТНО УГРЮМЫЙ В ОБЩЕСТВЕ»
Пушкин сделал шаг в сторону, чуть дальше, чем нужно было, отодвигая портьеру. Наталья Николаевна вошла первая. Она слегка покачнула станом, переступая порог. Слегка прикрыла глаза и остановилась, не то давая себя рассмотреть, не то смущаясь и пытаясь понять, что же делается в гостиной.
Было шумно, все сбились к большому дивану, а Дантес так и стоял на стуле, на который вскочил, изображая всадника. Он уже не двигался в том едва ли позволительном ритме и с теми гримасами, какие секунду назад приводили в восторг решительно всех, но было видно: ему хочется продолжить забаву. И обществу до смерти хочется, чтоб забава продолжалась. Дантес всего-навсего изображал самого себя на учениях, а заодно остолбеневшего командира полка и товарищей своих. Тех, которые были рады поддержать его вольности. А также тех, кто осторожно прикидывал, во что обойдётся Жоржу расстёгнутый ворот, небрежность посадки, раньше времени закуренная сигара? Или то, что после развода он свободно сел в экипаж, а из начальников никто ещё и не думал уезжать?
Читать дальше