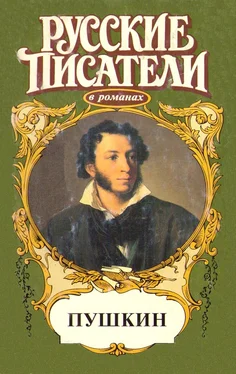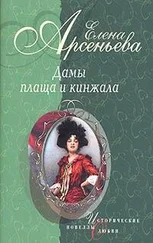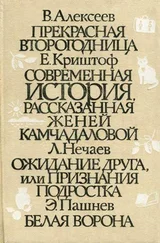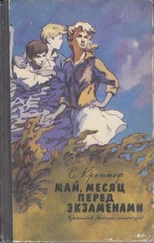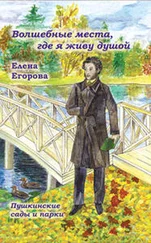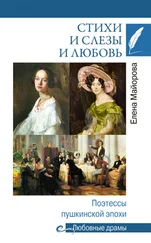Пока что «Пчела» оставалась невредимой, зато на многие лады повторялось суждение некоего Белинского: «Теперь мы не узнаем Пушкина: он умер или, может быть, только обмер на время... Мы должны оплакивать горькую, невозвратную потерю». Пусть оплакивают, коли делать нечего...
Он всё ещё смотрел в лицо Софье Николаевне, жалкое своею зависимостью, неловко поднятое к кавалергарду. Потом оторвался от столь раздражающего зрелища, обвёл глазами гостиную. Пока что все они, все, кто присутствовал здесь, в доме Карамзиных, в этот октябрьский вечер 1836 года, готовы были сбиться, да как ещё радостно, вокруг Дантеса. И готовность эту он не мог понять и не мог простить, забывая, что совсем недавно сам считал Дантеса славным малым. Пустоватым, слишком развязным, но именно — славным. Этаким обаятельным щенком, которого каждый готов приласкать.
Это начисто выветрилось из головы. Как и то спокойствие, та усмешка, с какой он наблюдал, как старательно кавалергард кружит, приближаясь к его жене. Многие делали вокруг неё круги. И у него появилось даже что-то вроде сочувствия к тем, кто отличался особой робостью и несомненной искренностью чувств. Два года назад Дантес щеголял почтительной робостью.
— Не дело восемнадцатилетней женщине пытаться управлять тридцатидвухлетним мужчиной, — говорил он когда-то тёще. — Хоть пол-Москвы тётушек поставьте на свою сторону — не выйдет! Я буду — я, а Таша будет Таша, жена при мне, но не я при жене, на московский столь сладкий вам манер.
Да, так он говорил, во всяком случае, что-то в этом роде. Сейчас всё ускользало из рук, уходило из-под его воли. А он был в оцепенении. Он знал себе цену, и его томило странное несоответствие между тем, что думали они и что он сам знал о себе, о своём «Современнике», о «Борисе» и «Онегине», да и обо всём прочем, написанном не на один год и не для забавы. Что, возможно, особенно трудно было понять желающим забавляться. «Для славы России». Он попробовал шёпотом, внутри себя произнести эти слова, опять упираясь взглядом в Софью Карамзину. Её отец тоже писал для славы России... Но и собственная слава его не обошла. К ней в его осиротелом доме относились с той особой бережностью и почтением, каких слава эта и была достойна. Карамзину удалось влиять.
Он же иногда видел перед собой стену. Не такую стену, забор, вроде того, дощатого, многолетнего, какой был ещё недавно вокруг возводимой на Дворцовой площади колонны в честь победы над Наполеоном. Не природную препону, сквозь которую можно было пробиться, какую можно было обойти. Эта стена не имела края и отталкивала от себя ещё до достижения её. Она была неопределённа. Она была — равнодушие.
Злость, ненависть, жажда мести имеют очертания... Он поёжился в кресле, ощущая в себе наличие всех этих чувств. Старался не глядеть ни в сторону жены, ни в сторону Дантеса. Это удавалось, когда он думал о «Современнике», о своём одиночестве и о том, что князь Владимир Фёдорович Одоевский собрался было издавать свой собственный журнал, отъединяясь, стало быть, от тех, кого он, Пушкин, сбивал с таким трудом... Журнал не разрешили, хотя Уваров ему способствовал [153]...
Потом он усмехнулся ещё горше, вспомнив жалостливое название статьи всё того же Одоевского: «О нападениях петербургских журналов на Пушкина». Её никто не хотел печатать, говорили, за резкость. Защитником князь был достойным, но к чему тут защитники? Он сказал тогда, махнув рукой: «Оставьте, князь, образуется. Перемелется — мука будет. Каравай испечём».
И сейчас повторял себе, поворачиваясь боком, чуть ли не спиной к оживлённо гомонящему обществу: перемелется. Одоевский был безусловно расположенный человек, к тому же жаждущий справедливости. Но зачем он затевал свой журнал, зная, что и на одного «Современника» ни читающих, ни пишущих не хватает? Не от «Пчелы» оттягивал и тех и других, а именно от «Современника» этим своим «энциклопедическим и эклектическим» журналом, «в духе благих попечений правительства о просвещении в России»...
Впрочем, текста прошения, поданного Одоевским, Пушкин, скорее всего, не знал. Он стал достоянием пушкинистов в наше время. Но то, что его ближайший сотрудник по «Современнику» отходит от него, не то чтобы оскорбляло, нет, просто стена удлинялась, совершенно теряясь в тумане. Он представил себе Одоевского в разговоре с Уваровым, мелко переступающего узкими ступнями. Даже когда уже сидел в кресле перед улыбающимся более чем благосклонно министром народного просвещения, ноги, носками врозь и как бы со слабой стопой, мелко двигались. Зачем надо было человеку честному и независимому ловить улыбку Уварова? Так ли уж не верилось при всей расположенности в журналистскую звезду Пушкина? Или откуда-то выпрыгнула жажда собственной журналистской славы? Да так, что можно было и Уварову искательно посмотреть в глаза?
Читать дальше