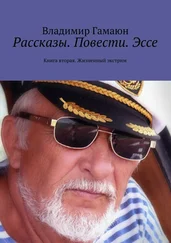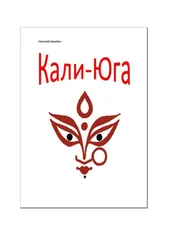«Этот загадочный ребенок,— писал один из младогерманских журналов, — внес совершеннейший разброд в наши партии. Кому следовало бы его хвалить, бранит его, кому следовало бранить — хвалит».
Как нам хорошо известно, это явный признак того, что партии зарапортовались. Беттину, эту «сивиллу романтической эпохи», младогерманцы называют «гениальным, мистическим, пророчествующим кобольдом, романтическим блуждающим огоньком»; «мстительной фурией» величает ее Бёрне, который в Париже перетолковывает ее проникнутую благоговением книгу в книгу, направленную против Гёте; а историк Леопольд Ранке заявляет: «У этой женщины чутье пифии». Из столь противоречащих друг другу примет составляется образ прямо-таки монстра; и это свидетельствует, как мне кажется, не столько о характере Беттины, ее натуре, ее личности, сколько о потребности эпохи во внеисторической и надысторической фигуре, которая единственно и могла бы внести хоть какое-то брожение в болото прусско-германской общественной жизни.
В этом государстве занято каждое кресло, каждый пост — от министра культуры до члена высшего цензурного комитета, от государственного советника до тайного уполномоченного по университетам, от министра внутренних дел до главного почтмейстера (у которого к тому же еще и фамилия Нагель — то ли ноготь, то ли гвоздь! — и который не может отказать себе в удовольствии почитывать самому перлюстрируемые письма поднадзорных литераторов — сколь похвальное личное участие!); контингент деятелей духа тоже широк — от государственных поэтов до демагога, содержимого в «железном ящике», в этом придворном узилище, наводящем на всех ужас; да и в оппозиции, похоже, все роли уже распределены. Вакантным оставалось — это видно лишь теперь, задним числом, — одно-единственное место, и его должна была занять женщина — из высокопоставленных кругов, но критически мыслящая, непригодная ни к какой должности, не принадлежащая ни к какой партии; она должна была быть образованной и бесстрашной, гражданственной и сострадательной, ясновидящей и сомнамбулой. Чем не описание фантастического видения? Но это портрет Беттины.
Неудивительно ли, насколько иной раз внешние обстоятельства играют на руку внутренним потребностям личности? Заслуга Беттины в том, что она приняла роль, выпавшую ей, — заполнила пробел, не задумываясь о последствиях. Не без тайного удовлетворения наблюдаешь за тем, как умело она использует свое положение женщины — то преимущество, которое в мужских сообществах до поры до времени скрывается под личиною недостатка, если данная несчастная счастливица умеет выдерживать роль слегка помешанной. В этом она — почитайте письма к Гюндероде — загодя натренировалась. «Чудачкою» она не раз сама себя называла. В серьезные времена самая надежная защита — если тебя не принимают всерьез; горький вздох, вырвавшийся у Гуцкова по поводу «Королевской книги» Беттины, — тому свидетельство:
«Разве не печально, что лишь женщине дозволительно говорить то, что любого мужчину привело бы за решетку?..»
Кто, скажите на милость, посадит за решетку сивиллу, кобольда, пифию?
* * *
Но шла ли вообще речь о решетке? Мы остановились пока — Вы помните — на книге о Гюндероде, на посвящении ее студентам, но снова мы вернемся к этой книге лишь после того, как, забежавши вперед, в дальнейшую жизнь Беттины, займемся поставленным вопросом. Цитирую отрывок из конфиденциального донесения, год 1847-й:
«Даже на чаепитиях обсуждались социальные вопросы. Тенденция этих чаепитий — социалистическая, ибо собравшиеся беседуют и спорят о том, как надлежит исправить жизнь по сути и по форме. Надобно заметить, что за освобождение от уз традиции, моды и условности ратуют преимущественно особы женского пола. Среди подобных особ в Берлине, снискавших широкую известность, Беттина фон Арним, бесспорно, первая и наиболее влиятельная. Что ее вечерние собрания носят означенный выше характер, известно всем и каждому здесь и даже при дворе. Ее оставляют в покое, потому что она пользуется здесь всеобщим уважением и на законных основаниях с ней ничего нельзя поделать».
Конфиденциальные доносчики в данном случае — благонадежные тайные осведомители того «Центрального управления информации» в Майнце, на учреждении которого — не в последнюю очередь из-за беспокойных студентов — настаивал лично князь Меттерних («…решительная борьба вечного правопорядка с революционным принципом близка и неизбежна»); это один из немногих институтов, преодолевших внутригерманские границы. В немецких университетах, как сообщают осведомители уже в конце 30-х годов, преобладает теперь совершенно иной дух, нежели в прежние годы: устраиваются только попойки в пивных. Но все-таки в официальных инстанциях — не только в этой — царит прочная враждебность к интеллигенции, так что прусский государственный министр Витгенштейн лишь высказывает то, что у остальных на уме, когда называет «кабинетных червей и прочих буквоедов и пустозвонов» подлинной раковой опухолью на теле человеческого общества, к искоренению коей он рад будет приложить руку. А на одной из высших должностей того «Центрального комитета», который получает указания и постановления майнцского «Центрального управления», находится несравненный тайный правительственный советник Чоппе, человек, который кончит тяжелым душевным заболеванием. Он любит эффекты. «Вчера Вы были в театре!» — такими словами он однажды утром, еще под бритвой цирюльника, встречает запрещенного писателя Гуцкова, вымолившего себе аудиенцию, дабы ходатайствовать об отмене запрета на свои сочинения. Великий человек, похоже, знает все. Торжествующе показывает он обескураженному автору список с именами тех, кто накануне вечером заказал гостевые билеты в столичный Королевский театр.
Читать дальше

![Виктор Пелевин - Все повести и эссе [авторский сборник]](/books/34745/viktor-pelevin-vse-povesti-i-esse-avtorskij-sborn-thumb.webp)