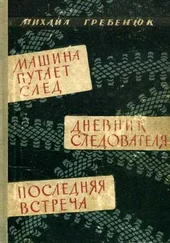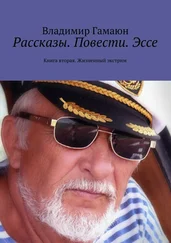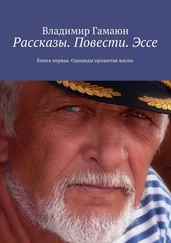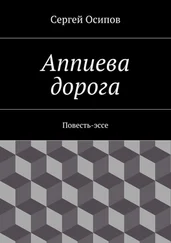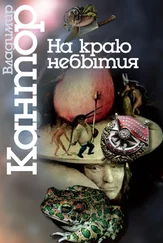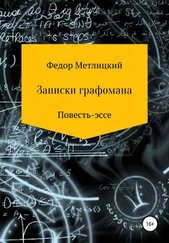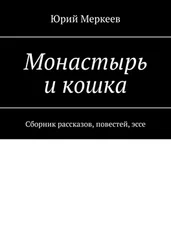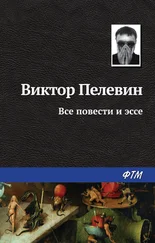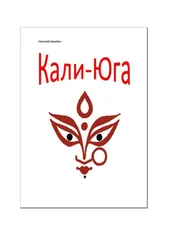Что это — наивность? Хитрость? Беспочвенная иллюзия? Что ж — самым верным способом утратить иллюзии всегда останется попытка их испробовать. Послушайте только, как она во втором томе своей «Королевской книги» («Беседы с бесами», 1852) саркастически формулирует свою утопию государственного устройства:
«Я не имею в виду государство, в коем цензуре дозволено будет вычеркивать мои мысли, я подразумеваю совсем иное государство, где-то за гималайскими хребтами, — отражение того государства, которое я могла бы подразумевать; а если цензура и это захочет вычеркнуть — ну что ж, тогда я и его не имела в виду. Я не имею в виду ничего такого, что могло бы быть вычеркнуто».
Тем временем уже остались позади предмартовская эпоха, 1848 год, неудавшаяся революция. Позади бесконечные стычки Беттины с цензурой, побудившие ее основать собственное издательство, названное именем Арнима и ставшее для нее источником новых забот и хлопот; позади все плотнее сжимающееся кольцо подозрений — среди них и подозрение в том, что она «коммунистка». (Гуцков: «Если самая страстная, самая пылкая любовь к человечеству есть коммунизм, тогда нечего удивляться, что у коммунизма обнаруживается столько сторонников».) Кстати, в 1842 году она будто бы встречалась в Крейцнахе с Карлом Марксом и его невестой Женни фон Вестфален и, к неудовольствию Женни, совершала долгие пешие прогулки с молодым доктором. Однажды (это тоже уже позади) она прервала работу над книгой, потому что не было надежды ее напечатать: прусский министр внутренних дел, по чисто министерскому обыкновению путая причину со следствием, в 1844 году обвинил ее в том, что она «подстрекнула к мятежу» силезских ткачей. «Уже одно желание помочь голодающим расценивается нынче как проповедь мятежа», — предостерегающе пишет ей один из друзей. И Беттина прерывает работу над своей «Бедняцкой книгой» — своего рода первым социологическим исследованием условий жизни четвертого сословия, со многими примерами из жизни силезских ткачей. Она поняла, что этот случай совершенно четко обозначил рубеж, который она уже не могла переступать безнаказанно, ту точку, где резче всего обнаружились социальные противоречия и в то же время их неразрешимость при данном режиме. Сила, которая могла бы изменить жизнь общества, была еще не развита, время не созрело ни для чего большего, кроме безрезультатного самопожертвования. Что остается? Попытаться еще раз написать королю: пускай он вместо собора в Берлине построит лучше тысячу хижин в Силезии; положение силезцев трагичнее всего Софокла. Не находите ли Вы, что это очень глубокий эстетический постулат, хоть он и выдвигается, как это нередко бывало в истории немецкой литературы, взамен неотложного действия? Он глубок потому, что Беттина рассматривает законы трагедии, выведенные из конфликтов в среде высших социальных слоев, как вполне применимые к положению «низших» слоев. Но это все, как Вы увидите, заложено уже в письмах к Гюндероде.
«Беттина слишком увлекается своим гуманизмом. Она думает, что угнетенные всегда правы», — с мягким упреком замечает Гунда фон Савиньи, ее сестра. Она все верно подметила. Супруге министра законодательных реформ не по себе от радикального гуманизма сестры — он впрямь грозит вылиться в неуважение к авторитету властей, под которым Беттина не видит моральных оснований: когда в 1847 году берлинский магистрат выдвинул против нее притянутое за уши обвинение в уклонении от уплаты налогов при организации ее издательского «дела» (она-де не озаботилась приобретением прав берлинского бюргера), последовало весьма решительное контрнаступление с ее стороны; однако же ее приговорили сначала к трем, потом, после кассации, к двум месяцам тюрьмы — наивысшая мера наказания для людей ее сословия; влиятельные лица, среди них прежде всего ее зять Савиньи, добились того, что приговор не стал приводиться в исполнение; но Беттина поняла, что формальная ошибка была использована как повод, чтобы продемонстрировать ей орудия возможной расправы. Один из современников вспоминает слова, сказанные ею в обществе по этому поводу:
«Эту кашу с магистратом мне заварили министры, они мечтают выпроводить меня из Берлина, потому что придворная шутиха его романтического величества доставляет господам министрам слишком много хлопот».
Как видите, однажды дело таки чуть не дошло до «решетки»; а ведь можно считать законом, что человека, который нисколько не озабочен признанием со стороны официальных властей — то есть не подвержен коррупции, — реальная угроза подстегивает к еще большей решимости, заставляет переступить границы, которые как будто изначально предписаны ему его происхождением и образом жизни. Так случилось и с Беттиной. Тяжба с магистратом помогла ей сформировать бескомпромиссное суждение о структуре общества, в котором она жила, и о необходимых в будущем переменах. В подтверждение я процитирую Вам несколько абзацев из письма, которое она написала берлинскому магистрату в свою защиту.
Читать дальше
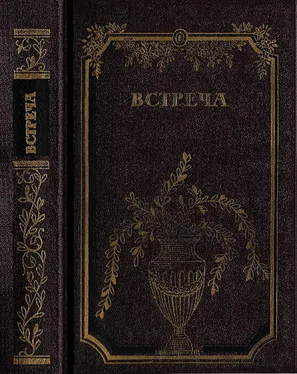
![Виктор Пелевин - Все повести и эссе [авторский сборник]](/books/34745/viktor-pelevin-vse-povesti-i-esse-avtorskij-sborn-thumb.webp)