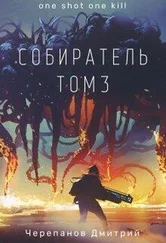Отвлечемся на мгновение от императора, собирающегося проплыть на своей флотилии по реке, и для полноты картины опишем остальное имение графа, распространяющееся за пределы Грузина.
Село Грузино было главным, но не единственным населённым пунктом в графском имении. За лесом были расположены несколько деревень, которых между собой и, ясное дело, с селом соединяли одни из лучших и ровных дорог в империи. По ним очень любили разъезжать, разгоняясь, дорогие гости, для которых Грузино было всегда открыто. Аракчеев с Минкиной были всегда гостеприимны, поэтому, наверное, не было ни дня, когда в Грузине не гостил какой-нибудь высокопоставленный гость. Здесь же часто бывали и заграничные послы (отсюда большей частью и объясняется богатая коллекция их подарков, подаренных графу лично). Жёсткий порядок и бестолковый педантизм касался и этих знаменитых грузинских дорог: в правилах крестьянам должно было заметать следы только что проехавшего экипажа. Для чего это нужно было, знал, наверное, один только автор этого правила.
На берегу Волхова, немного в стороне от села распластались дивные и густые луга, предназначавшиеся большей частью для сена. Всё хозяйство было рассчитано на большую прибыль, в самом селе был учрежден банк, удерживающий процент от всех доходов и аккумулирующий излишки для особых нужд имения и крестьянства. Банк выдавал ссуды крестьянам, из него брали деньги на ремонт, очередное строительство и других целей. Грузино, как когда-то Гатчина, была не просто каким-то помещичьем имением, это было настоящее государство в государстве, где даже, казалось, законы были свои, а что объединяло его с Россией, так это русский язык, распространяемый здесь, русское население и в конце концов, российский рубль.
Среди построек в парке было очень интересное небольшое сооружение, размещавшееся посреди прудов на отдельном маленьком островке. Это была святая святых села Грузино, святее церкви, куда были приглашаемы только самые-самые-самые приближенные лица графа. В его отсутствие вход туда наглухо запирался. Чем он там занимался – не смеем даже предположить, знаем только, что это была миниатюрная и оригинальная картинная галерея, вмещавшая в себя картины самого непристойного содержания. Они были прикреплены к неким механизмам, которые одни картины выдвигали к зрителю, сидящему посреди комнаты, другие же отходили на задний план. Зрителя окружал великий разврат, изображавшийся в самых отвратительных положениях, будто бы инструктирующие, как лучше растлевать собственную душу, утолявши неестественные желания тела. Сия атмосфера этой комнаты превращала человека в животное, у которого нет ничего святого, животное, живущее ради одного этого разврата.
Аракчеев любил женщин. Любил их страстно, страшно, зверски любил! Еще до царствования Александра он был едва ли не главным развратником империи, когда же при Павле Петровиче он начал получать хороший заработок, получил от императора это имение, его разврат потерял всякие ограничения, он начал скупать всех красивых крестьянок, о которых слышал и которых видел. Но это-то его и погубило, среди этих крестьянок попалась такая душа, способная совсем не обуздать, а наоборот, разжечь еще больше это неугасающее пламя неутоляемой страсти только лишь затем, чтобы ей самой этим пламенем управлять и поглощать его. Этой душой и была-то Настасья Федоровна Минкина, образовавшая с Аракчеевым настоящую дьявольскую парочку. Если бы Аракчеев, подобно верующему христианину верил бы в брак и чтил его, он, быть может, и женился на этой крестьянке, занявшей всё его свободное от службы существо. Но в брак он вступил лишь по прямым намекам и настоятельным советам его матери, которую он все же любил и уважал. Выбор его пал на весьма хорошую партию, прямо перед свадьбой получившую шифр фрейлины, очень молодую, с хорошим приданным, девушку. Полная тезка Минкиной, восемнадцатилетняя Настасья Федоровна Хомутова вышла замуж за тридцатисемилетнего Алексея Андреевича Аракчеева в 1806 году. Несмотря на юный возраст при огромной разнице с мужем, она хотела тихого семейного счастья, насколько это возможно с человеком, занимающего высокий правительственный пост. Но Аракчеев жутко ее ревновал, возможно, не потому, что подозревал, что ей видно лучше иметь молодого любовника, ровесника своего, но и потому что крестьянка Минкина, всё оставаясь на своем посту любовницы Аракчеева, сама ревновала своего хозяина и любовника. Не вдаваясь в подробности этих хитросплетений, скажем только, что брак этот просуществовал несколько лет, чуть ли не с каждым днем (то есть с каждой изменой мужа) все больше трещал по швам и вполне законным способом в конце концов распался.
Читать дальше
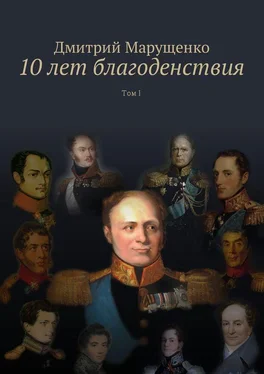
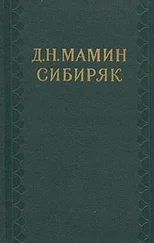
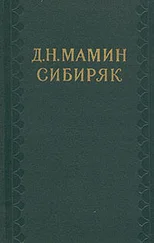
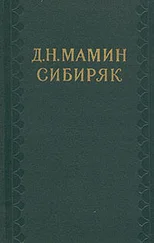
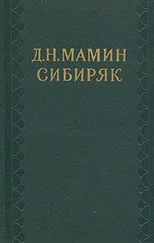
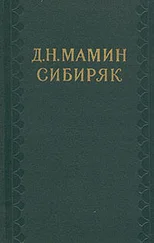

![Дмитрий Милютин - Дневник. 1873–1882. Том 2 [litres]](/books/396483/dmitrij-milyutin-dnevnik-1873-1882-tom-2-litres-thumb.webp)
![Дмитрий Милютин - Дневник. 1873–1882. Том 1 [litres]](/books/396484/dmitrij-milyutin-dnevnik-1873-1882-tom-1-litres-thumb.webp)