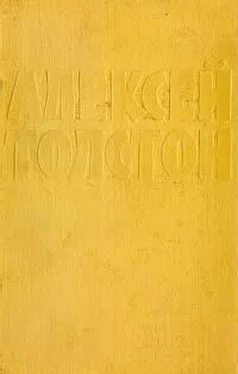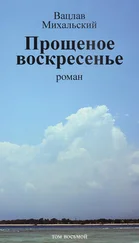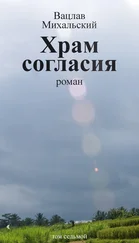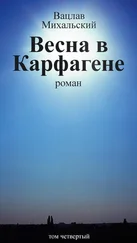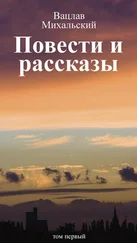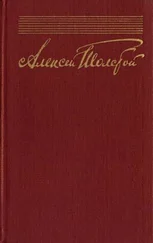Помимо архивных документов и литературных источников, А. Толстой широко использовал при написании своего романа фольклорный материал. Интерес А. Толстого к русскому фольклору, глубокое знание им памятников народного творчества оставили заметный след в художественной ткани «Петра Первого». В романе множество фольклорных образов и мотивов. То мелькнет пословица, поговорка, острая народная шутка; то почувствуется отзвук народной песни или сказки; есть целые описания старинных обрядов. Поскольку в своем романе А. Толстой старался полнее показать народ, дать народную жизнь в ее широком разливе, постольку он, естественно, обращался к фольклору, в котором столь ярко запечатлелся самый духовный склад, богатый внутренний мир русского человека. Фольклорные образы в повествовании А. Толстого органически входят в основную художественную ткань, образуя с ней неразрывное целое.
Некоторые исторические песни, как, например, песни о завоевании Азова, о строительстве Воронежского флота, о взятии Шлиссельбурга, о прорытии Ладожского канала, об основании на Неве новой столицы (см. «Песни, собранные П. В. Киреевским», вып. 8, 9), особенно заметно использованы были писателем в его произведении. Они дали возможность ему отразить отношение народных масс к событиям петровского царствования, помогли в осмыслении общего характера эпохи, в уяснении роли изображаемых им событий и исторических лиц.
Большой отпечаток наложил фольклор и на общий склад повествования в романе, местами необычайно близкий к народной речи.
Работе над языком своего исторического романа А. Н. Толстой придавал исключительно большое значение. Еще в 1929 году, в одной написанной им статье, он подробно рассказывал о том, как старинные судебные документы XVII века оживили его интерес к народному языку, привели его к широкому использованию богатств живой народной речи.
«В конце 16-го года покойный историк В. В. Каллаш, узнав о моих планах писать о Петре I, снабдил меня книгой: это были собранные проф. Новомбергским пыточные записи XVII века, — так называемые дела «Слова и дела»… И вдруг моя утлая лодчонка выплыла из непроницаемого тумана на сияющую гладь… Я увидел, почувствовал, — осязал: русский язык… Дьяки и подьячие Московской Руси искусно записывали показания, их задачей было сжато и точно, сохраняя все особенности речи пытаемого, передать его рассказ. Задача в своем роде литературная. И здесь я видел во всей чистоте русский язык, не испорченный ни мертвой церковно-славянской формой, ни усилиями превратить его в переводную (с польского, с немецкого, с французского), ложно-литературную речь. Это был язык, на котором говорили русские лет уже тысячу, но никто никогда не писал… В судебных (пыточных) актах — язык дела, там не гнушались «подлой» речью, там рассказывала, стонала, лгала, вопила от боли и страха народная Русь. Язык чистый, простой, точный, образный, гибкий, будто нарочно созданный для великого искусства» (А. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 13, стр. 567).
Изучая документальные материалы, отмечая наиболее типичные для языка XVII–XVIII веков выражения и слова, писатель обычно стремился найти и зафиксировать прежде всего те слова и обороты речи, все то, что носит колорит старины, но в то же время может быть понятно и близко современному читателю.
Когда Алексею Толстому приходилось использовать в своем «Петре Первом» памятники русской письменности XVII века, подлинные древние тексты, он с большой осторожностью, с редким художественным тактом умел разгружать их от наиболее архаичных оборотов и обветшалых языковых форм.
В главе I первого тома «Петра» раскольничий начетчик Фома Подщипаев читает одно очень выразительное место из подлинных поучений протопопа Аввакума. Оно заимствовано из «Книги бесед» Аввакума — из беседы седьмой («О старолюбцах и новолюбцах»), где оно имеет следующий вид (в скобках заключены последующие сокращения А. Толстого):
«Помните ли вы, как Мелхиседек жил в чащиие леса того, в горе сей Фаворстей, семь лет ядый вершие древес и вместо пития росу лизаше? Прямой был священник, не искал ренских, и романеи, и водок, и вин процеженных, и пива с кордомоном (и медов малиновых, и вишневых, и белых всяких крепких). Друг мой, Иларион, архиепискуп рязанской! Видиши ли, как Мелхиседек жил? На вороных и в каретах не тешился ездя. Да еще был и царские породы. А ты кто? Воспомяни о себе, Яковлевич, попенок! В карету сядет, растопырится, что пузырь на воде, сидя в карете на подушки, расчесав волосы, что девка, да едет, выстави рожу на площаде, чтобы черницы-ворухиниянки любили. Ох, ох, бедной! (Некому по тебе плакать. Не достоин бо век твой весь Макарьевского монастыря единоя нощи. Помнишь ли, как на комарах тех стаевано на молитве?)) Явно ослепил тебя диявол. (Где ты, мот, девал столько добра? И другое погубил! На Павла та митрополита что глядишь? Тот не живал духовно, блинами все торговал да оладьями. Да как учинился попенком, так по боярским дворам научился блюди лизать.) И не видал и не знает духовного жития…»
Читать дальше