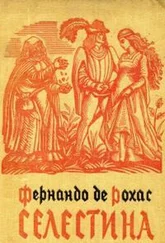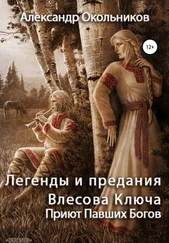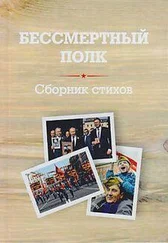Выясняется, что паспорт и привычная, для всех удобная манера поведения — вот и вся личность в сегодняшнем буржуазном обществе. И жена и мать, повинуясь общественному мнению, готовы вновь принять писателя, если он наденет прежнюю маску. Но герой, ужаснувшись своей безындивидуальности, больше не хочет скрывать маской отсутствие лица. Он так и остается затворником в своей библиотеке… Тема самопознания, отчаянных попыток человека найти и рассмотреть свое «я», ускользающее в повседневности, сливающееся с сотнями и тысячами таких же «я», повинующихся тем же законам, продолжает тревожить Рохаса и всплывает — уже в широком национально-историческом контексте — в «Долине павших».
Действие романа «Аутодафе» (1968) происходит в конце XVII в. в короткое царствование слабоумного короля Карлоса II, прозванного Околдованным. Со смертью этого бездетного монарха пресеклась Габсбургская династия, и после долгой разорительной войны за испанское наследство страна стала добычей Людовика XIV, посадившего на испанский престол своего внука Филиппа. Началось царствование испанских Бурбонов, первый кризис которого мы наблюдаем в «Долине павших». Впрочем, в «Аутодафе» Рохас еще не касается специально проблем национальной истории. Его интересуют отвлеченные философские вопросы: возможна ли внутренняя свобода несвободного человека, что дает человеку вера и т. п. История лишь поставляет ему живописный материал: шуты и инквизиторы, провидцы и палачи, гранды и авантюристы — все, чем кишит испанский двор в пору его закатного величия.
На рубеже 60—70-х годов Рохас начинает свои исторические штудии: выходят «Диалоги для другой Испании» (1966) — книга об идеологической нетерпимости и преследовании инакомыслящих в Испании XVIII–XIX-ХХ вв., «Гражданская война глазами изгнанников» (1975), «Антифранкистские портреты» (1977), работы об Антонио Мачадо, Пикассо, Унамуно, Ортеге-и-Гассете. Рохаса интересуют наиболее драматические эпизоды новейшей истории его страны и всей Европы. Своими главными темами он считает кризис абсолютной власти и драму замкнутого в себе рационализма. Переплетаясь, они связываются в единый проблемный узел, вокруг которого строятся все книги Рохаса, и публицистические, и художественные, и который можно определить так: мыслитель, художник, вообще интеллигент перед лицом социального кризиса.
Для художественного воплощения этой темы Рохас в 70-х годах разрабатывает особую повествовательную структуру, можно назвать ее исторической фантастикой. В основе книги — всегда какое-то фантастическое допущение, вымысел, мимикрирующий под документированную правду. Президент Испанской Республики Мануэль Асанья, умирая в изгнании в Андорре, в полубредовом внутреннем монологе вспоминает годы президентства, события войны, пытается понять причины поражения Республики… («Асанья», 1973). Гитлер, сумевший скрыться из бункера после инсценировки самоубийства, десятилетиями прячущийся на заброшенной мельнице в Испанских Пиренеях, ведет долгий словесный поединок с разыскавшим его молодым мстителем, сегодняшним европейцем-интеллигентом, оказывающимся, однако, бессильным в схватке с фашистской демагогией и «волей к власти», которой одержим агонизирующий от дряхлости фюрер… («Мой фюрер, мой фюрер!», 1975). Федерико Гарсиа Лорка в загробном мире, напоминающем более всего кинозал, созерцает свою жизнь как прокручиваемую снова и снова киноленту… («Хитроумный идальго и поэт Федерико Гарсиа Лорка восходит в ад», 1979). В сумасшедшем доме под названием «Сон разума» встречаются не то призраки, не то безумцы, воображающие себя призраками Фернандо VII, Декарта, Марселя Пруста, Гаврило Принципа, и ведут беседы об истории, искусстве, судьбах Европы и мира… («Сон о Сараево», 1982). При этом Рохас тщательно подготавливает своего рода «ловушки» для памяти читателя, рассыпая детали, связывающие все эти романы в некое целое, в единый «текст». Так, в первой главе «Долины павших» Сандро узнает о двух трупах, найденных жандармами вблизи полуразвалившейся мельницы: дряхлого старика и юноши с медальоном на шее. Тела не опознаны, и в «Долине павших» больше ничего об этом странном происшествии не говорится. Разгадка случившегося — в романе «Мой фюрер, мой фюрер!». А читая роман «Сон о Сараево», по некоторым приметам пейзажа догадываешься, что приют «Сон Разума» выстроен в тех же горных местах, где Сандро работал над книгой о Гойе. Сандро Васари появляется и в других романах, всегда выступая как следопыт в чаще истории, как биограф художников и мыслителей. На его роль в повествовании указывает уже данная ему фамилия: ведь недаром Сандро представляется как прямой потомок Джорджо Вазари, итальянского архитектора и живописца, прославившегося своими «Жизнеописаниями наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550), доказывавшими, что жизнь художника может быть предметом и увлекательного повествования и морального поучения.
Читать дальше
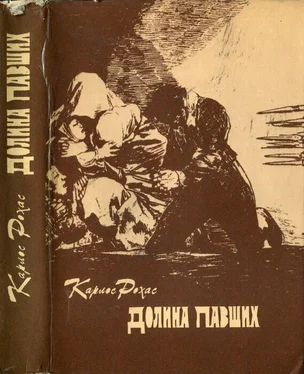


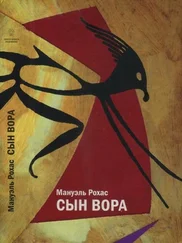
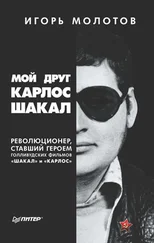


![Константин Муравьев - Тени павших врагов [litres]](/books/409919/konstantin-muravev-teni-pavshih-vragov-litres-thumb.webp)