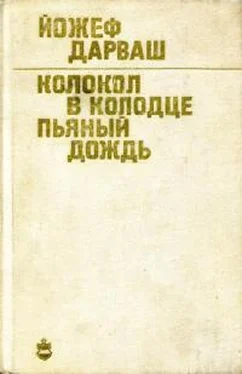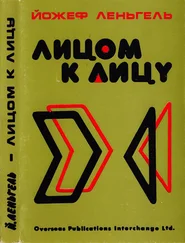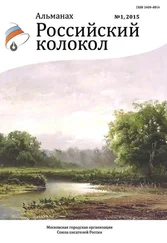Всего этого я не сказал. И не смог бы сказать, даже если бы и захотел. Снова все завертелось у меня перед глазами, и меня стало трясти как в лихорадке. Мне помогли добраться до первого этажа, где стояло несколько коек. На одну из них меня и уложили.
На другой день меня и старика Боронкаи — хотя тогда его вряд ли можно было назвать стариком — послали в город по заданию общественной комиссии по расследованию фашистских злодеяний, чтобы мы запечатлели на кинопленку следы преступлений фашистов. Нам дали старую, плохонькую камеру «Аррифлекс». С ней мы и ходили по Будапешту. По сути дела, все вокруг годилось для наших кинокадров. Снимай хоть все подряд — одна картина правдивее другой.
Боронкаи, с которым я познакомился только сейчас, то и дело бросал на меня косые взгляды, особенно когда окончательно убедился — а это наступило довольно быстро, — что я в киносъемках, как говорится, ни в зуб ногой.
— Послушай, ты коммунист? — спросил он меня наконец, когда мы выбрались из импровизированного морга на улице Теме, куда в последние дни до прихода сюда советских войск стаскивали трупы повешенных и расстрелянных на улицах фашистами людей.
— Да, — ответил я.
— А я нет. Просто рассчитываю получить справку с печатью. Хочешь не хочешь, а эту постылую жизнь как-то надо начинать сначала. — Не знаю, то ли он захотел открыть мне свою душу, то ли просто сказать такое, на что впоследствии в случае необходимости смог бы сослаться. Что бы там ни было, но он продолжал: — Я, братец, всегда стоял в стороне от политики. Грязное это дело. Но то, что творилось здесь, у нас, хуже всякой политики. Хорошо еще, что хоть все полетело ко всем чертям… — И пожалуй, чтобы как-то смягчить свое «заявление», добавил: — Ну какой из тебя, к черту, киношник? Это тебе не политика. Тут дело надо знать!
Вскоре я привязался к нему. В его хитроватой осторожности и даже в несколько примитивной расчетливости, в стремлении приспособиться к новой обстановке было что-то человечное.
— Это все жена, — признался он позже. — Она заставила меня явиться на регистрацию в партию. А я, ей-богу, сам не рискнул бы и носа из дому высунуть. Вот ведь какая чертовщина получилась.
Так, разговаривая, мы бродили по городу.
И вот что странно: чем больше развалин, развороченных домов, трупов и павших лошадей видел я, чем ужаснее картины гибели и опустошения развертывались перед моими глазами, тем сильнее ощущал я леденящий душу холод. Нет, мне все это было отнюдь не безразлично; но я лишь фиксировал виденное, как чувствительная, но все же холодная целлулоидная пленка в моем «Аррифлексе».
Вдруг меня снова затрясло как в лихорадке.
Мы шли по площади Ракоци, там, где совсем недавно, пятнадцатого октября, я еще видел ярмарочные палатки и солдата, стрелявшего по самолету. Сейчас площадь была загромождена руинами, обломками, трупами, грязными кучами снега. На краю площади кого-то хоронили. И тут я увидел закутанного в рваный платок ребенка лет шести-семи. Он бегал между трупами, пытаясь поймать поросенка. Но догнать его ему не удавалось: поросенок увертывался и как бы дразнил малыша. Он делал вид, будто беззаботно роет рылом пропитанный кровью снег, и подпускал мальчика поближе к себе. Но стоило тому подойти к нему вплотную, как поросенок с задорным хрюканьем убегал прочь. Малыш, гоняясь за поросенком, сначала обходил трупы, потом стал перепрыгивать через них; он носился по всей площади, но все его усилия были тщетны. «Откуда взялся здесь этот поросенок? И эти трупы?» — сверлила мне мозг мысль.
— Куци-куци-куци, — подзывал малыш поросенка, но тот бежал от него пуще прежнего. От досады мальчик заплакал, по щекам его ручьем потекли слезы.
И мне в этой дикой оргии смерти и разрушения было больно смотреть на слезы ребенка. Я вспомнил свое детство. Отец мой был родом из деревни. А когда мы жили на рабочей окраине столицы, в Триполисе, он часто говорил мне, что как-нибудь мы выроем в песчаных дюнах скрытый закуток, поймаем и посадим туда поросенка. Выкормим его, вырастим, а когда он станет большим, заколем и устроим пир горой. Но мечтам нашим так и не суждено было сбыться… И вот теперь поросенок передо мной, но я не смог его поймать. Ведь за ним уже бегал не мальчик, закутанный в платок, а я сам… Перепрыгивая через трупы, я гонялся за поросенком. Я задался целью во что бы то ни стало поймать его. Кому же, как не мне, сделать это?
Но тут я рухнул на грязный окровавленный снег.
— Ты болен, братец, — сказал мне Боронкаи, помогая встать на ноги. — Тебе полежать бы надо. Есть хоть где прилечь? А то, может, у нас?
Читать дальше